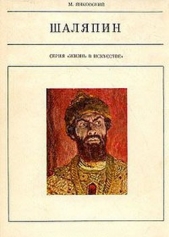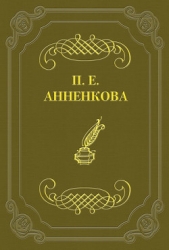Маска и душа
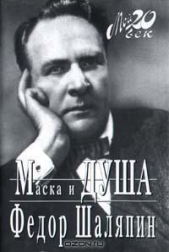
Маска и душа читать книгу онлайн
Прошло почти шестьдесят лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина, но интерес к его личности и творчеству не ослабевает, слава его не меркнет. Он продолжает оставаться эталоном оперного певца, образцом для подражания, кумиром миллионов людей, которые родились гораздо позже его кончины, гордостью российской и мировой культуры. Кроме многочисленных сценических масок, у Шаляпина существовала еще одна - маска человека, благополучного во всех отношениях, баловня судьбы. Таким воспринимала его Европа после эмиграции певца из России. И лишь в воспоминаниях, впервые вышедших в Париже в 1932 году, он написал о горьком хлебе изгнанника, о тоске по Родине, о своей душе, которую не удосужились понять слишком многие...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А то еще российский мужичек, вырвавшись из деревни смолоду, начинаеть сколачивать свое благополучие будущаго купца, или промышленника в самой Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки, на лотках льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему как пришито. Не казиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешевом трактире, в прикусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, холодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, после завтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается «экономистом». А там, глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-ой гильдии купец. Подождите — его старший сынок первый покупает Гогенов, первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матиса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно-разинутыми ртами на всех непонятых еще нами Матисов, Манэ и Ренуаров и гнусаво-критически говорим:
— Самодур…
А самодуры, тем временем, потихонечку накопили чудесныя сокровища искусства, создали галлереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву…
Я помню характерное слово одного из купеческих тузов Москвы — Саввы Тимофеевича Морозова. Построил он себе новый дом на Арбате и устроил большой праздник, на который, между прочим, был приглашен и я. В вестибюле, у огромной дубовой лестницы, ведшей в верхния парадныя залы, я заметил нечто, похожее на фонтан, а за этим большия цветныя стекла, освещавшияся как то извнутри. На стекле ярко выступала чудесная лошадь, закованная в панцырь, с эффектным всадником на ней — молодым рыцарем, котораго молодыя девушки встречали цветами.
— Любите воинственное, — заметил я хозяину.
— Люблю победу, — ответил с улыбкой С.Т.Морозов.
Да, любили победу российские купцы, и победили. Победили бедность и безвестность, буйную разноголосицу чиновных мундиров и надутое чванство дешеваго, сюсюкающаго и картавящаго «аристократизма».
Я редко бывал в гостях у купцов. Но всякий раз, когда мне случалось у них бывать, я видал такую ширину размаха в приеме гостей, которую трудно вообразить. Обездив почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха не видал нигде. Я думаю, что и представить себе этоть размах европейцы не могут.
Когда мне приходится говорить о людях, которые не нравятся, мне делается как то неловко и совестно. Это потому, что в глубине моей души я имею убеждение, что на свете не должно быть людей, не вызывающих к себе симпатии. Но если они на свете существуют, делать нечего — надо говорить правду.
Насколько мне было симпатично солидное и серьезное российское купечество, создавшее столько замечательных вещей, настолько же мне была несимпатична так называемая «золотая» купеческая молодежь. Отстав от трудовой деревни, она не пристала к труду городскому. Нахватавшись в университете верхов и зная, что папаша может заплатить за любой дорогой дебош, эти «купцы» находили для жизни только одно оправдание — удовольствия, наслаждения, которыя может дать цыганский табор. Дни и ночи проводили они в безобразных кутежах, в смазывании горчицей лакейских «рож», как они выражались, по дикости своей неспособные уважать человеческую личность. Ни в Европе, ни в Америке, ни, думаю, в Азии — не имеют представления и об этого рода «размахе»… Впрочем, этих молодцов назвать купечеством было бы несправедливо — это просто «безпризорные»…
Я уже упоминал о том, что великих актеров дало России крепостное крестьянство. Выдвинуло оно, как я только что отметил, и именитое российское купечество. Много, во истину, талантливости в русской деревне. Каждый раз, когда я об этом думаю, мне в образець приходят на памяти не только знаменитые писатели, художники, ученые или артисты из народа, но и простые, даровитые мастеровые, как, например, мой покойный друг Федор Григорьев. Этот человек в скромной профессии театральнаго парикмахера умел быть не только художником, что случается нередко, но и добрым, спорым, точным мастером своего ремесла, что в наше время, к сожалению, стало большой редкостью.
Есть у меня две-три «буржуазныя» причуды: люблю носить хорошее платье, приятное белье и красивые, крепко сшитые сапоги. Трачу много денег на эти удовольствия. Заказываю костюм у самаго знаменитаго портного Лондона. Меня изучают во всех трех измерениях и затем надо мною проделывают бесконечное количество всевозможных манипуляций при многих примерках. А в конце концов — в груди узко, один рукав короче, другой длиннее:
— У вас правое плечо значительно ниже леваго.
— Но вы, ведь, мерили сантиметром.
— Извините, как то упустил.
То же самое с сапогами и рубашками. Кончил я тем, что, заказывая платье, белье и обувь, я пристально гляжу на закройщиков и спрашиваю:
— Вы замечаете, что я уродлив?
Удивление.
— Вы видите, например, что у меня левое плечо ниже праваго?
Приглядывается:
— Да, немножко.
— А на левой ноге у меня вы не видите шишки около большого пальца?
— Да, есть.
— А шея, видите, у меня ненормально длинная?
— Разве?
— Так вот, заметьте все это и сделайте, как следует.
— Будьте спокойны.
И опять — правая сторона пиджака обязательно висит ниже левой на 5 сантиметров, сапоги больно жмут, а воротник от рубашки преть к ушам.
То же самое у меня с театральными парикмахерами. С тех пор, как я уехал из России, я никогда не могу иметь такого парика, такой бороды, таких усов, таких бровей, какие мне нужны для роли. А театральный парикмахер, — как это ни странно, простой парикмахер — главный друг артиста. От него зависить очень многое. Федор Григорьев делал просто чудеса. В нем горели простонародная русская талантливость и несравненная русская сметливость и расторопность. Был он хороший и веселый человек, заика и лысый — в насмешку над его ремеслом. Подкидыш, он воспитывался в сиротском доме и затем быль отдан в учение в простую цырюльню, где «стригут, бреют и кровь пускают». Но и у цырюльника он умудрился показать свой талант. На святках он делал парики, бороды и усы для ряженых и выработался очень хорошим гримером. Он сам для себя изучил всякое положение красок на лице, отлично знал свет и тень.
Когда я обяснял ему сущность моей роли и кто такой персонаж, то он, бывало, говорил мни:
— Ддд-умаю, Ффф-едор Иванович, что его нн-адо сыграть ррр-ыжеватым.
И давал мне удивительно натуральный парик, в котором было так приятно посмотреть в зеркало уборной, увидеть сзади себя милое лицо Федора, улыбнуться ему и, ничего не сказав, только подмигнуть глазом. Федор, понимая безмолвную похвалу, тоже ничего не говорил, только прикашливал.
Мой бенефис. Завивая локон, Федор, случалось, говорил:
— Ддд-орогой Ффф-едор Иванович. Поодппустим сегодня для торжественнаго шаляпинскаго спектакля…
И, действительно, «подпускал»…
В профессиональной области есть только один путь к моему сердцу — на каждом месте хорошо делать свою работу: хорошо дирижировать, хорошо петь, хорошо парик приготовить. И Федора Григорьева я сердечно полюбил. Брал его заграницу, хотя он был мне ненужен — все у меня бывало готово с собою. А просто хотелось мне иметь рядом с собою хорошаго человека и доставить ему удовольствие побывать в январе среди роз и акаций. Ну, и радовался же Федор в Монте-Карло! Исходил он там все высоты кругом, а вечером в уборной театра сидел и говорил:
— Дде-шево уст-трицы стоят здесь, Ффе-дор Ивв-анович. У ннас не подступишься! А уж что замечательно, Федор Иванович, тт-ак это ссс-ыр, Фффе-дор Ивв-анович, ррок-фор. Каждое утро с кофеем седаю чч-етверть фунта…
Я с болышим огорчением узнал о смерти этого талантливаго человека. Умер он в одиночестве оть разрыва сердца в Петербурге… Мир праху твоему, мой чудесный соратник!