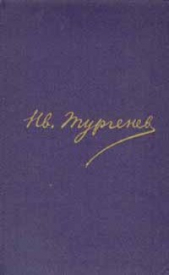Замогильные записки
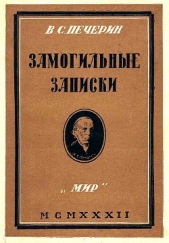
Замогильные записки читать книгу онлайн
Печерин Владимир Сергеевич — русский иезуит, эллинист; родился в 1808 г. Окончил курс в Петербургском университете, был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. В 1836 г. занял кафедру греческой словесности в Московском университете.
Тогдашнее положение вещей угнетало Печерина; он решился уехать из России. Для этого нужны были деньги. Печерин стал давать уроки, свел свои издержки на самое необходимое, избегал товарищеских собраний и, наконец, уехал, уведомив попечителя письменно, что не воротится в Россию. За границей Печерин некоторое время был домашним учителем, а потом сделался монахом иезуитского ордена, и очень ревностным.
В издание вошли мемуары Владимира Сергеевича Печерина «Замогильные записки», написанные в 60–70-е гг. XIX столетия. .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сей же час и с этой же печкою перенеси меня на берег Луганского озера, на теплое раздолье! — Уф! как холодно на дворе!
Я чай, скоро переменят лошадей: надобно будет опять лезть в сани. — Ах ты господи боже мой! Как бы хотелось мне остаться здесь хоть до утра! Да нет! нельзя! У меня денег еле-еле достанет до Цюриха, а там что будет, не знаю.
Нечего делать! Надобно покориться судьбам. Сани готовы — и мы начали спускаться с вершины горы. Любезная мать-природа с ее вечными законами доставляет нам услаждения в наших страданиях. Тут с каждым шагом температура смягчалась, становилось как-то привольнее, теплее, как будто сделалась оттепель, и наконец около рассвета мы остановились у подошвы горы в Госпендале…
Решительно, я открыл один из этих островов 24 декабря 1836 года у подошвы Сен-Готарда под 46° 76 м. северной широты в гостинице Госпендале.
Тут сделалась совершенная перемена декораций. Вхожу в общую залу: яркий огонь пылает в камине и отражается на красных занавесках, — на столе, накрытом белоснежною скатертью, стоит горячий кофе, пироги, вино, — все что душе угодно, и милая дочь хозяина встречает меня лучезарными взорами и майскою улыбкою. Все забыто — и холод, и горе! все ни по чем! все трын-трава! Я напился и наелся до сыта, славно обогрелся и так разыгрался, что-даже начал строить куры этой хорошенькой девушке — как бишь это выразить по-русски? у нас говорят: волочиться; но это мне кажется очень пошло и провинциально, a faire la cour как-то благороднее и показывает большее уважение к прекрасному полу. Да, впрочем, тут и помину быть не могло о такой подлой вещи, как волокитство: ведь это не гостиница, а заколдованный замок из тысячи и одной ночи; а эта красавица вовсе не дочь трактирщика: она мавританская принцесса, находящаяся в плену у злобного волшебника, а мне суждено быть ея рыцарем и освободить ее. Так предписано вечными судьбами. Да оно уж очевидно из того, что принцесса вовсе не казалась строптивою. Вероятно она приняла меня за какого-нибудь знаменитого изгнанника, ètranger de distinction, едущего с тайными депешами из Лугано в Цюрих. Да и в самом деле, какая нелегкая понесла бы обыкновенного человека через Сен Готард накануне рождества? Вот так-то мы, русские, надуваем честной божий народ! Целых два часа мне позволено было остаться в Госпендале. Быстро летели минуты у этого камина за стаканом вина, в этой милой беседе. Огонь камина и огонь черных глаз, — не знаю, что было жарче. Но увы! время летит… Огонь камина и огонь этих светлых глаз — все пройдет и потухнет. «Прощайте! прощайте! Моя судьба темна: не знаю, куда она меня ведет, но где бы я ни был, под каким бы то ни было небосклоном, везде, всегда ваше воспоминание, ваш милый образ будет моим единственным утешением».
Каково? — Запечатлели ли мы эту минутную дружбу прощальным лобзанием — не помню — кажется; но это уж слишком скоромное воспоминание — не годится в великий пост.
Есть милые неотразимые образы: ни время, ни расстояние не могут их остановить; они вечно преследуют вас, как светлые видения лучших невозвратных дней.
Бесприютным нищим я прошел по дороге жизни. Издали виднелись царские дворцы и белые палаты богачей и звуки их веселия достигали слуха моего; но мне не позволено было остановиться и насладиться их гармониею. Иногда теплые ветерки навевали мне благоухания роз и ясминов из садов Армиды: ах! какое сладостное ощущение! как должно быть привольно в этих тенистых рощицах, на берегу этих зеркальных прудов, среди этих милых резвых видений! Но увы! это не для меня! пойдем далее! Постойте! Вот у самой дороги на закраине прелестный цветочек. Дай остановлюсь хоть на минуточку, полюбуюсь его радужными красками, упьюсь его раскошным благовонием… Нет! нет! невозможно! Вперед! вперед! кричит неумолимая судьба. Напрасно я протестую и говорю с Шиллером:
«Пошел ты с своей Аркадией!» сурово кричит судьба, словно какой-нибудь прусский вахмистр: «Vorwarts! Вперед! вперед!» И я послушно иду вперед, вперед, вперед — и земля вертится подо мною —
Недавно один мудрец из Латинского квартала в Париже, взглянувши на меня, сказал: «Voilá le juif errant!» [142] Это доказывает, что у французов мозг еще не совсем размягчился и что они еще способны иногда угадывать правду.
Настал день — серый зимний день. Вместо саней подвезли маленький дилижанс, где я был единственным пассажиром. Лихой парень каких-нибудь 22 лет соединял в себе должности кучера и кондуктора и тотчас завязал со, мною разговор. Он хвастался мне, что эта барышня в Госпендале — его кузина, и что он не раз с нею танцовал на бале… Счастливый соперник! думал я.
Странно ехать по Швейцарии зимою. Все ее живые прелести задернуты каким-то однообразным сибирским саваном. Эти гордые великолепные водопады, стремящиеся с громом и треском, рассыпающиеся радужною пылью — теперь очень смиренно и очень прозаически висели ледяными сосульками по серым скалам, точно как будто клочки инея на бороде русского мужичка.
Я только что отобедал в гостинице в Цюрихе и заплатил последних два франка, вдруг подходит ко мне молодой человек с газетою в руках — кажется Nouvelliste vaudois [143] — и указывает на следующую статью:
«Два патриота, Г. Банделье и кто-то другой, арестовали в Бьенне французского шпиона Кузена, т.-е. они повалили его на землю и силою выхватили у него из-за пазухи какие-то секретные бумаги».
«Этот Банделье — я сам», сказал молодой человек. [144] — «Ах, боже, мой, отвечал я: я очень рад с вами познакомиться»
Судьба решительно мне благоприятствует, думал я: как же, с самого первого шагу в Цюрихе познакомиться с таким важным политическим деятелем!
Надобно знать, что из-за этого им арестованного Кузена сделалась ужасная суматоха и Тьер обложил Швейцарию герметическою блокадою (blocus hermetique) [146].
«Позвольте вам еще доложить», сказал опять г. Банделье, — «что я тоже участвовал в Савойской экспедиции». — Et je vous en félicite! [147] сказал я. Но она как-то не удалась. — «Да что ж тут делать! Ведь это все измена! trahison!» — Ну а Маццини был там? — Нет! помилуйте! Как же этакую драгоценную жизнь подвергать опасности?»
А! понимаю: т.-е. я теперь понимаю, что в подобных случаях Маццини всегда как-то удачно умел оставаться в стороне, а между тем многие прекрасные юноши из-за него легли костьми, как говорится в Полку Игореве.