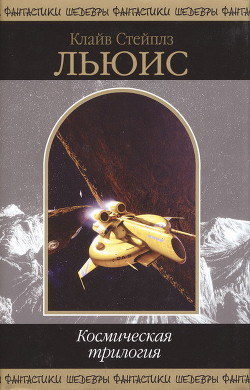«И снова Бард…» К 400-летию со дня смерти Шекспира
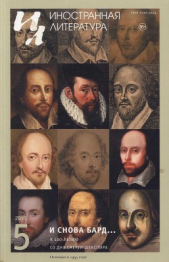
«И снова Бард…» К 400-летию со дня смерти Шекспира читать книгу онлайн
Майский выпуск «ИЛ» целиком посвящен Уильяму Шекспиру (1564–1616), чья четырехсотлетняя годовщина смерти широко отмечается мировым культурным сообществом. И называется номер «И снова Бард…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отнюдь; нас не страшат предвестия, и в гибели воробья есть особый промысел. Если теперь, так, значит, не потом; если не потом, так, значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-нибудь; готовность — это все[151].
Но в более ранней сцене трагедии Гамлет в разговоре с матерью описывает предстоящую встречу с бывшими университетскими друзьями, с которыми ему предстоит плыть в Англию, таким образом, что невозможно не заметить манипулятивный склад его ума — такой же, который характерен для фигуры Макиавелли:
Готовят письма; два моих собрата,
Которым я, как двум гадюкам, верю,
Везут приказ; они должны расчистить
Дорогу к западне. Ну что ж, пускай;
В том и забава, чтобы землекопа
Взорвать его же миной; плохо будет,
Коль я не вроюсь глубже их аршином,
Чтоб их пустить к луне; есть прелесть в том,
Когда две хитрости столкнутся лбом!
[152]
Любопытно, что, возвращаясь потом к этому эпизоду, Гамлет описывает его как нечто спонтанное, пришедшее в голову «внезапно», по «безрассудству». Но так как к концу трагедии автор задумал показать нам более примиренного, почти непредвзятого Гамлета, при этом ничуть не утратившего решимости достигнуть заявленной им цели, но более свободного от терзавших его сомнений и неверия в себя, — этот его рассказ о том, что произошло на корабле, свидетельствует о перемене в характере героя. Тем, что плаванье на корабле дважды появляется в ткани повествования, подчеркивается возросшая экспансивность Гамлета в финальных сценах пьесы. Шекспиру нужно показать, как Гамлет вырастает из своего интриганства, из роли «макьявеля» и становится в чем-то более великодушным, что соответствует практике самого Макиавелли, который завершил свою книгу мощным заключительным аккордом. Концовка «Гамлета» не менее макиавеллистична, если не более.
Тут стоит вернуться к более ранней пьесе — к «Ричарду III», где сцена обольщения в конце концов становится чем-то более значительным, чем макиавеллиевская расчетливая игра в поддавки, прикинувшаяся «романтическим обожанием», а именно так судят о Ричарде критики, которые видят в нем лишь злодея, вознамерившегося осуществить свой дьявольский план. Но при таком взгляде из виду выпадает невероятный риск, на который идет Ричард в решительную минуту. Расчет и стратегические выкладки составляют лишь малую часть его поведения — есть ведь еще откровенная бравада, которая легко могла бы закончиться провалом.
Макиавеллизм тут значит то же самое, что и в «Государе», где автор рассуждает о Фортуне: смелость побеждает там, где неуверенность и осмотрительность ведут к проигрышу. Ричард, конечно же, не подчиняет себе Анну силой: не избивает ее и не измывается над ней. Тем не менее физическое насилие маячит на горизонте в виде угрозы; угрозы в том смысле, что героине предоставляется возможность воспользоваться силой: Анна со всех сторон оказывается окружена мужским миром и условия пребывания в нем лишают ее воли и инициативы.
Все это свидетельствует о том, как много живости вносит макиавеллизм в канонические литературные и драматургические формы, придав им несравненно более разнообразный, оригинальный вид, чем считали некоторые исследователи, утверждавшие, что макиавеллианская тирания просто сменила тиранов Сенеки на сцене своей эпохи. В то же время это обновление жанра говорит нам о кое-чем примечательном и в области этических норм. Самый главный урок, который преподал Макиавелли своим первым читателям эпохи Возрождения, касается не природы зла — как утверждают его критики, — а природы морали в целом. Если Фортуну можно заставить уступить решимости некоего лица и это приведет его к успеху, значит, как полагает Макиавелли, некоторые действия выходят за пределы противоборства добра и зла и попадают в нейтральную зону противостояния двух воль. И если вследствие феминизации образа Фортуны на первый план выходит идея женской уязвимости, значит, выбор действий зависит не столько от человеческого сознания, сколько от неуправляемого (а значит, пригодного для маневрирования) инстинкта. «Ричард III» — драма, которая и привлекает, и отталкивает зрителя изображаемым в ней миром, где мораль предана на поругание. Но и в этой пьесе, и в опусе Макиавелли подразумевается, что такой мир не может подчиняться воле одного-единственного человека сколько-нибудь долго, и каждый из этих двух авторов ищет большей устойчивости. Макиавелли, само собой разумеется, ищет ее в республиканстве, что явствует из его другой, более фундаментальной книги — «Рассуждения», а Шекспир — в гармонии между христианскими идеалами и законной монархией. Но в каждом из рассматриваемых нами сочинений оба автора переживают то, что равнозначно экзистенциалистскому прыжку веры над ограничивающими нормами морали, которыми каждый из них связан в обычной жизни. Прыжок этот, явленный в характере Ричарда, когда он добивается руки леди Анны, становится пружиной пьесы, подобно тому, как «Государь» «заводится» бодрящим описанием борьбы за лидерство.
«Ричарда III» часто ставят и трактуют как пьесу, которая, подобно «Макбету», изображает цивилизацию в тисках зла. Тиран подавляет истину и своих подданных одновременно. Традиционно обе пьесы считаются макиавеллианскими. Если это верно, значит, Макиавелли призывает лишь к несправедливости и бесчестию. Но выше я старался показать, что этим дело не исчерпывается. Само собой разумеется, мы не можем не радоваться падению Ричарда, как не можем не испытывать облегчения при виде того, как кровавые «подвиги» Макбета кончаются ровно тем, чем и должны были кончиться. Но в каждой из пьес акцент ставится на разных сторонах макиавеллизма. Ричард — фигура, перед которой до определенного момента сценического действия открываются все новые и новые возможности. Его погоня за короной кажется частью азартной игры, причем на игровом поле присутствуют и другие претенденты, да и пьеса так лихо закручена, что мы желаем Ричарду успеха — по крайней мере, некоторое время. Макбет же не вызывает такого сопереживания, и в тяготении к трону зритель слишком рано замечает его измену себе, стремление к дурной цели. В отличие от «Макбета», ритм «Ричарда III» — уверенный и бурный, хотя «Макбет» — тоже очень увлекательная пьеса, но увлекательная в своей мрачности. Макиавеллианские принципы, примененные к жанру драмы, с неизбежностью влекли за собой и дестабилизирующие, и животворные последствия, неся, с одной стороны, моральную зыбкость, с другой — стилистические новшества. То были два динамичных потока, дополняющие один другой. Первая историческая тетралогия Шекспира, завершающаяся «Ричардом III», затрагивает вопросы морали в истории, тогда как во второй ставится та же проблема, но там она принимает более сложные формы.
Дэвид Хёрли[153]
Макиавелли и его идеи в пьесах Шекспира
Фрагменты лекции, прочитанной в Хиросиме, апрель 2009
© Перевод Т. Казавчинская
Злодей «Макьявель» на английской сцене
Через 85 лет после своей смерти, последовавшей в 1527 году, Никколо Макиавелли[154] явился на лондонской сцене в роли Пролога к пьесе Марло «Мальтийский еврей»:
Макиавелли
Пусть думают — Макиавелли мертв;
Душа его перелетела Альпы.
По смерти Гиза Францию покинув,