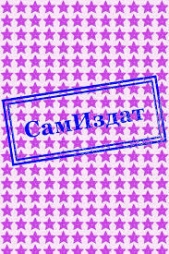Марина Цветаева. Жизнь и творчество
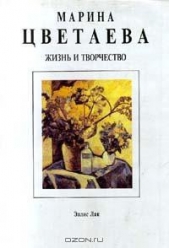
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она надписала другой экземпляр фотографии:
"Дорогому Алексею Елисеевичу Крученых с благодарностью за первую красоту здесь — Кусково — озеро и остров — фарфор — в день двухлетия моего въезда. МЦ. 18-го июня 1941 г.".
"Первую красоту здесь"… За два года только и видела Марина Ивановна: страшное Болшево, убогое и тоже страшное — по ночам — Голицыне, пригородные поезда, московские чужие квартиры… Ей действительно за все это время ни разу не удалось увидеть красоту.
На той последней своей фотографии она стоит во втором ряду, в скромной кофточке с отложным воротничком, в берете, из-под которого сбоку выбиваются волосы. Такая "обыденная", такая безразличная к своей внешности, с выражением, подобающим рядовому, заурядному снимку…
Прошло три дня. Наступило воскресенье — двадцать второе июня. Был солнечный день. В том году в Подмосковье ранние белые грибы соседствовали с поспевшей земляникой…
"22 июня — война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покр<овскому> бульвару", — записала Марина Ивановна. Кто знает, почему в этот день она вынула из своего архива рукопись юношеского стихотворения, написанного двадцать восемь лет назад — вероятно, в такой же ясный коктебельский день:
И приписала внизу:
"Из юношеских стихов, нигде не напечатанных. МЦ, Москва, 22-го июня 1941 г."
Может, готовилась подарить кому-нибудь, с кем встречалась накануне в Телеграфном у Яковлевой? А может, оглушенная страшным сообщением, специально пометила это стихотворение, звучащее в тот проклятый день особенно символически?…
Двадцать первого, в последнюю предвоенную субботу, у Яковлевой, по обыкновению, собралось несколько литераторов; Марина Ивановна читала там вызволенную у Кваниной "Повесть о Сонечке"; разошлись под утро. Провожая Цветаеву домой, молодой поэт и переводчик Элиз-бар Ананиашвили, восхитившись дивной летней ночью, внезапно подумал и сказал о том, что вдруг грянет война, и как они тогда будут вспоминать тот вечер. Все это он рассказал четверть века спустя Яковлевой, что она и записала; он и теперь помнит и ту ночь, и свои слова… [142]
Сначала Цветаева попыталась работать. Запись от 27 июня:
"Попробуем последнего Гарсиа Лорка".
Но в тетради больше ничего нет.
…По-видимому, общалась с Эренбургом. 29 июня он записал: "Марина о квартире и стихах". Неизвестно, был ли то разговор по телефону или встреча. "О квартире" — скорее всего потому, что Марине Ивановне невыносимо было соседство и она хотела бы переехать. "О стихах" — о ее переводах(?).
(Шестого июля Сергею Яковлевичу, вместе с его пятью "подельниками", — в списке он стоит первым, — был вынесен приговор: "…подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит". Приговор приведут в исполнение 16 октября 1941 г. в Москве.)
Седьмого июля, отмечая военные сводки, Эренбург вновь записал: "Цветаева". Может быть, в связи с тем, что накануне в эвакуацию в Татарию по Каме отбыл первый эшелон Союза писателей и Марине Ивановне пришла мысль об эвакуации? Хотя в то же время она была озабочена поисками новой комнаты (нелады с соседями) и чуть ли не собиралась переехать в одну из двухкомнатных квартир Пастернака — сам он жил в Переделкине. Редактор 3. Кульманова вспоминает такие слова Цветаевой: "Борис Пастернак мог бы пригласить нас к себе на время на дачу".
По-видимому, Марина Ивановна затем раздумала ехать в квартиру Пастернака, и внезапно приняла другое решение: уехать прочь, хотя бы ненадолго, не видеть Москвы в преддверии паники, с ее заклеенными полосами бумаги окнами, мешками с песком, наконец — от ужасного зрелища уходивших на войну отрядов.
"Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?" — вырвалось у нее ровно двадцать пять лет назад в Александрове ("Белое солнце и низкие, низкие тучи…") А пятнадцать лет назад, когда родился сын:
"Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на войну придется".
Она металась, она была в панике; второстепенное смешивалось с насущным, но все поглощала явная, стремительно приближавшаяся опасность, из которой не было выхода. Впереди маячил лишь тупик.
И тогда каким-то инстинктивным движением она решила спрятать голову под крыло. И уехала… к Вере Меркурьевой: станция Пески, погост Старки, десять верст от Коломны, а та, в свою очередь, — сто пятнадцать километров от Москвы, — неблизко. Вроде Тарусы.
Так, на исходе жизни, как некогда на ее заре, Цветаевой суждено было немножко пожить в среднерусской природе. В красоте, которую — впрочем, заметила ли?..
Вера Меркурьева оказалась надежным человеком: старая, больная, "неблагополучная", она, не в пример "благополучным" советским собратьям по ремеслу, поделилась с Цветаевой единственным, чем могла. Она с подругой снимала две комнаты в избе; в других двух комнатах жил А.С. Кочетков с женой. Рядом — переводчик С. В. Шервинский с семьей — на "руинах" родового имения его родителей. В Старках витал "дух" Анны Ахматовой, пять лет назад приезжавшей туда и осветившей жизнь Меркурьевой. Коломне Ахматова обязана строками, обращенными в 1940 году к Цветаевой:
Но этих строк, как мы уже говорили, Марина Ивановна никогда не увидела, а если б и увидела, то все теперь было ей совершенно безразлично. Она прожила эти дни, как тень. Именно тенью запомнилась она Шервинским: как "проходила мимо их флигеля в черном платке к колодцу". (Наверное, за "платок" приняли цветаевский беретик.)
Сама Меркурьева в феврале следующего года вспоминала, что в Старках Марина Ивановна была "такая — сама не своя, что чувствовалось что-то недоброе" и что была она "неузнаваемо постаревшей".
Там, в Старках, Марина Ивановна избежала кошмара первой бомбежки Москвы в ночь с 21 на 22 июля. На расстоянии более сорока километров было видно зарево от немецких осветительных ракет и пылающих домов…
Двадцать четвертого июля, повинуясь неостановимому беспокойству, в разгар бомбежки и паники, она вернулась в Москву. Нужно ли описывать ее отчаяние? Однако пока еще действовал, пересиливая все муки, ее внутренний закон, рожденный вместе с рождением сына шестнадцать лет назад: "Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью". Его надо было спасать, увозить прочь от бомбежек, от крыш, куда падали зажигалки, а он, естественно, там дежурил. Но куда ехать? К кому? С кем?
Марина Ивановна была совсем, совсем одна. Вселенски одна.
Она оказалась в ситуации, напоминающей зиму двадцатого года, когда забрала тяжелобольную Алю из приюта, а на маленькую Ирину не хватило душевных сил; поблизости не оказалось никого, кто бы взял на свои плечи часть ее ноши. Но тогда Марина Ивановна была молода, — да и сама ситуация, при всей тяжести, была в какой-то мере легче, однако и тогда сил на всё не хватило…