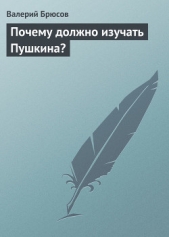Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 читать книгу онлайн
Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Под драмой народной он подразумевал не сюжет, а дух произведения, отвечавший духу того народа, для которого оно было написано. Пушкин указывал, что «самые народные трагедии Шекспир заимствовал из итальянских новелл», но это нисколько не мешало ему признавать Шекспира великим национальным писателем. Лев Толстой понять этого не мог и сердито называл Шекспира второстепенным подражателем итальянских новеллистов. (Я это слышала от самого Толстого в 1903 году.)
В связи с «Годуновым» не раз называл Пушкин и Карамзина. Может быть, отчасти по его вине друзья преувеличили и это влияние. Трагедия была не только плодом свободного вдохновения, это была историческая работа, которую Пушкин вел вдали от библиотек и архивов, вдали от общения с людьми, изучавшими прошлое России. Он был один. «Общество мое состоит только из старой няни, да из трагедии», – писал он приятелю.
Те, с кем Пушкин привык советоваться, кому читал свои незаконченные вещи, были далеко. Да на этот раз у него и потребности делиться не было. Он ревниво охранял свое писательское уединение, никого не звал в свое царство, никому не послал ни строчки «Годунова». И в письмах молчал о трагедии. Когда работа была уже наполовину сделана, он написал Вяземскому.
«Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: Романтическую трагедию! – Смотри, молчи же! Об этом знают весьма немногие» (13 июля 1825 г.).
И внизу приписка к письму:
«Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о Ц. Борисе и Гришке Отр. Писал раб Божий Алек., сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Вороничи. Каково?»
Месяц спустя он писал Жуковскому:
«Трагедия моя идет, и думаю к зиме ее кончить; вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. – Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь! В этом трепет жизни, как во вчерашней газете, как писал я Раевскому. Одна просьба, моя прелесть: нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака, или житие какого-нибудь Юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих-Минеях – а мне бы очень нужно» (17 августа 1825 г.).
На это письмо отозвался не Жуковский, ленивый на письма, а Вяземский, гостивший в Царском у Карамзиных. Историограф с большим интересом услыхал о «Годунове» и через Вяземского предлагал свою помощь:
«Карамзин очень доволен твоим трагическим занятием и хотел отыскать для тебя Железный Колпак, – писал Вяземский, – он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Бориса дикую смесь набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания себе. Это противоположность драматическая. Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы быть тебе полезен в историческом отношении… Карамзин говорит, что в Колпаке не много найдешь пищи, т. с. вшей. Все юродивые похожи. Жуковский уверяет, что тебе надо выехать в лицах юродивого» (6 сентября 1825 г.).
Железным Колпаком звали юродивого, блаженного Иоанна, который зимой и летом носил тяжелую железную шапку. Пушкин настойчиво добивался каких-нибудь подробностей об его жизни, хотя в трагедии отвел ему только одну сцену. Но в ней голос юродивого, бесстрашно обличающего Бориса за убийство Дмитрия, звучит как голос совести русского народа. В сценическом отношении сцена с юродивым при всей своей краткости одна из очень важных и сильных.
Отвечая Вяземскому, Пушкин писал:
«Благодарю от души Кар. за Железный Колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в Юродивые, авось буду блаженнее! Сегодня кончил я вторую часть моей Трагедии – всех, думаю, будет четыре. Моя Марина славная баба, настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори однако ж этого никому. Благодарю тебя и за замечание Кар. о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я его засажу за Евангелье, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. – Ты хочешь плана? возьми конец X и весь XI том, вот тебе и план» (13 сентября 1825 г.).
Так Пушкин упорно повторял, что идет по стопам Карамзина, хотя указания, переданные Вяземским, не отразились на характере Годунова, который у Пушкина очерчен гораздо шире, чем у Карамзина. В пушкинском Годунове нет «дикой смеси набожности и преступных страстей». На совести Бориса лежит темное преступление, но он владеет собой, у него ясный государственный ум. Лукавыми, преступными путями пробирается он к трону и в то же время мечтает, добившись власти, осчастливить народ.
А в душе грызущее сознание своего падения, своей слабости:
Это психология несравненно более глубокая и сложная, чем указания Карамзина. Тут родственное Шекспиру понимание сильных человеческих характеров, мучительные противоречия могучей богатырской натуры, борьба темных и светлых сил, которые так трагически терзали душу Правителя. В Борисе неутолимая жадность к власти и любовь к родине, отчасти и к народу, жестокость и нежная привязанность к детям, презрение к людям и сознание собственной преступности. Это не мелодраматический злодей, писанный одной краской, это живой человек, который волнует нас, которого мы не можем не жалеть. Рядом с ним его соперник, Самозванец, кажется ветреным мальчишкой, но Пушкин придает и ему черты привлекательные – удаль, дерзость, храбрость, наконец, романтическую, красивую влюбленность в надменную Марину.
В письмах Пушкин ничего не говорит о других источниках, которыми он пользовался для «Годунова». Их было немало. Само название, выписанное в письме к Вяземскому, есть пересказ первых строчек старинной хроники: «Летопись о многих мятежах и разорении Московского Государства». Пушкину эта хроника очень пригодилась. Кроме того, у него был «Новый Летописец», «Житие Царя Федора Ивановича», составленное патриархом Иовом, «Сказание Авраама Палицына», «Грамота об избрании Годунова», VII том «Истории Российской» Щербатова, «Древняя Русская Вифлиотека» Новикова, сочинение капитана Маржерета, «Etat de l'Empire de la Russie» [20]. В библиотеке Пушкина был экземпляр этого сочинения издания 1821 года. Возможно, что и в Святогорском монастыре видел он старые рукописи и записи. Но так велик был авторитет Карамзина и так велика была горделивая скромность Пушкина, что созданная им самим легенда, будто в трагедии он только облек в художественную оболочку карамзинскую повесть о Годунове, продолжалась более полувека.
«Карамзину, – писал Пушкин, – следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык того времени».
Это прямое указание на летописи долго ускользало от внимания критиков и исследователей, пока, в самом конце XIX века, не появилась работа академика И. Н. Жданова. Он показал, что Пушкин далеко не слепо следовал Карамзину, а сверял его с другими источниками и выводил равнодействующую: «Пушкин, в изображении царя Бориса, шел своей дорогою, на которой Карамзин не был и не мог быть его руководителем. Карамзинский Борис появляется на престоле как излюбленный царь русской земли, вызывающий общее сочувствие и боярства и народа. Пушкинский же Борис в первых же сценах драмы представляется мнимым избранником народа, тоже своего рода самозванцем; развитие драмы лишь вскрывает ту ложь, которая скрывалась в самом вступлении Бориса на престол».
Вся первая сцена, разговор Шуйского и Воротынского, где с таким мастерством обрисованы оба характера, расходится с Карамзиным, который считал, что «Князья Рюриковичи, давно лишенные достоинства князей, давно слуги Московских государей, наравне с детьми боярскими не дерзали и мыслить о своем наследственном праве». У Пушкина эти князья и бояре полны памяти о наследственных правах, но они притаились, они выжидают. Пушкин не сочинил этого настроения, он только развил заключающийся в «Летописи о многих мятежах» намек на Шуйских, которые «Бориса не хотяху на царство, узнаху его, что быти от него людям и к себе гонению».