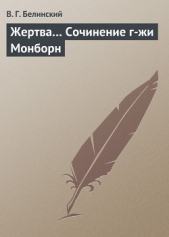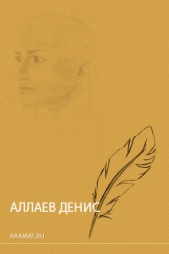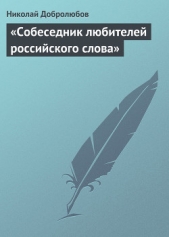Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы
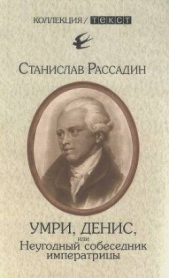
Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странно, нескладно, нелепо… И, как бывает, в этой-то нескладности и проступает прозрение, для самого Фонвизина пока нечаянное.
Эта странность — в духе русского восемнадцатого века.
«Теперь было бы для нас непонятно, — говорил Пушкин о Радищеве и его товарище Ушакове, — каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных…»
Да, в девятнадцатом веке уже непонятно. Правда, не зря Пушкин скажет: «для нас», а не «для меня»; не зря он прибегнет к сослагательности: «было бы непонятно». Сам-то он, кажется, понимал.
«Утро провел с Пестелем, — делает он запись в дневнике 9 апреля 1821 года, — умный человек во всем смысле этого слова. „Mon сœur est matérialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refuse“. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю…»
Может быть, одна из причин оригинальности, выразившейся в этом каламбуре: «Сердцем я — материалист, но мой разум этому противится», — близость историко-психологического типа, свойственного восемнадцатому веку, к Павлу Пестелю, человеку спартанских или римских добродетелей, стоику, «классику» в отношении нравственного кодекса. (Лучшее, что можно сказать о человеке в екатерининский век, было: «римлянин», и не зря сама императрица в письме к Вольтеру именно этим словом решила возвеличить интимно-рыцарские и, что сомнительнее, государственные дарования Григория Орлова.) Заговорщик Пестель, «русский Брут», все решительно, от самой своей жизни и честолюбия до чистоты собственных рук, готовый положить на алтарь отечества (как известно, он не только шел на цареубийство, но собирался пожертвовать цареубийцами, а в случае победы надумал удалиться от власти), — он сгодился бы на роль героя трагедии классицизма, Сумарокова или Княжнина.
Вообще, век не кончается с последнею секундой 31 декабря..00 года, «человек восемнадцатого» или «человек девятнадцатого столетия» — это не указание на одну только дату рождения; люди века предшествующего еще продолжают жить в веке последующем — не старчески доживают остаток дней, как Троекуровы и Верейские в пушкинское время, но живут, затесавшись в новое поколение, и, допустим, сам Пушкин олицетворяет собою преемственность столетий, даже причастность к комплексам минувшего века; слушает разговоры Загряжской, чувствует себя почти современником Петра Гринева, живо, как однолеток, полемизирует с Радищевым или кровно приемлет Фонвизина.
Вернемся, однако, к серьезному Пестелеву каламбуру.
Сердце, ставшее оплотом материалистического неверия, — результат упорного воздействия просветительского духа. Философии того же «холодного и сухого» Гельвеция. А разум, парадоксально не соглашающийся с сердцем, — свидетельство того, что русские головы все-таки еще не способны безоглядно подчиниться идеям новейших философов.
Многие из больших людей восемнадцатого века, возраставшие на идеях Просвещения, могли бы позаимствовать у Пестеля его слова. Они воспитывались на беспредельном уважении к разуму, они творили культ его, но, оставаясь людьми (кем невозможно не быть, живя сердцем), корректировали его доводы велениями души, больше того, присваивали своему кумиру достоинства символа нравственности, «святой мышцы».
Разум, сделавшийся воплощением чувства, — эта странность, случайно прорвавшаяся в неумелом и робком «Корионе», гораздо позже будет Фонвизиным осознана. «Разум,кажется, применить можно к зрению, — напишет он. И чтобы не подумали, будто речь о зрении внешнем, холодном, вненравственном, добавит: — Он есть душевное наше око».
Так — нетвердо, нечаянно, на ощупь — начинает Денис Иванович улавливать первые черточки портрета своего времени. Такие первые шаги… нет, как уже было сказано, первые полшагаделает он в пору расцвета государственных иллюзий, когда, кажется, все более или менее просто. «Ты должен посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек». Только от тебя, от правил чести зависит посвятить себя отечеству, а уж оно-то тебя ждет не дождется. Как твоего Кориона из его огорчительного побега.
Истинно русской комедией «Корион» стать не мог, зато это «склонение на свои нравы» сумело-таки отразить хоть черточки современности, в отличие от комедий Сумарокова; зато оно начало период, провозглашенный Лукиным… И перед нами могла бы возникнуть вполне идиллическая картина литературного единомыслия, если бы быт, который так не хочется учитывать, говоря об истории литературы, не вмешался грубо и мелко.
«Состояние мое теперь таково, что я лучшего не желаю, если только оно продолжится, — пишет Фонвизин сестре Федосье 26 июня 1766 года. — Иван Перфильевич ежедневно показывает мне знаки своей милости; по крайней мере не имею я того смертельного огорчения, которое прежде чувствовал от человека, коего и самая природа и все на свете законы сделали ниже меня и который, несмотря на то, хотел не только иметь надо мною преимущество, но еще и править мною так, как обыкновенно правят честными людьми многие твари одинакой с ним породы. Все мое счастие состоит в том, что командир мой сколь ни много его любил, однако любовь его к нему преодолели его рассуждение и честь».
Кто же этот злокозненный враг, стоящий столь ниже Дениса Ивановича и тем не менее так ему досаждающий? Ответ — в следующей фразе:
«Иван Перфильевич, будучи сам благородный и честный человек, раскаивается в прежнем своем поступке с Лукиным…»
Да, это все тот же Владимир Игнатьевич Лукин, сын придворного лакея (отсюда дворянская надменность Фонвизина), один из секретарей Елагина, любимец его, самое близкое доверенное лицо, чему, вероятно, способствовало и то, что, как Елагин, Лукин был масоном, даже стоял во главе ложи «Урания».
Он-то, как нарочно, и оказался злейшим врагом того, с кем, казалось, надо быть ему союзником. Но литературные отношения тогда мало что решали.
Трудно сказать, что поссорило единомышленников, борьба ли за ближайшее к «командиру» место, тяжелый ли характер Лукина, насмешки ли острослова Фонвизина, натолкнувшиеся на обидчивость; как бы то ни было, началась вражда, самим Денисом Ивановичем в «Чистосердечном признании» описанная так:
«Сей человек, имеющий, впрочем, разум (Д. И. хочет быть объективен. — Ст. Р.),был беспримерного высокомерия и нравом тяжел пренесносно. Он упражнялся в сочинениях на русском языке; физиономия ли моя или не весьма скромный мой отзыв о его пере причиною стали его ко мне ненависти. Могу сказать, что в доме самого честного и снисходительного начальника вел я жизнь самую неприятнейшую от действия ненависти его любимца».
Но в конце концов капризный нрав «честного и снисходительного» стал тяжел для Фонвизина. Допекаемый Лукиным и не защищаемый более Елагиным, Фонвизин просился в отставку, хотел переменить службу, но тут сказалась та самая черта знаменитого чудака — не терпел он, если кто-нибудь делал то, чего не мог делать он, или имел то, чего у него не было. Чудачество обернулось самодурством: патрон не хотел никому уступать столь способного литератора, а без его воли никто Фонвизина не брал, не желая ссоры с Елагиным.
Спутник уже неохотно крутился в орбите сановной планеты, и сила притяжения стала невыносимой:
«С.-Петербург, сентября 11 дня 1768.
Милостивый государь батюшка и милостивая государыня матушка!
На полученные по нынешней почте милостивые ваши письма ничего в ответ донести не имею, как только то, что я на просьбу мою никакой резолюции не имею… Такая беда моя, что никто прямо от него брать меня не хочет; а на него я никакой надежды не имею. Он говорит, что я, пошед в отставку, сам себя погублю и что, переменив место, будто также сам себя погублю; а не погублю себя, оставшись у него. Слыханы ли в свете такие ответы? Как бы то ни было, я с ним в нынешнем же месяце расквитаюсь. Мне жить у него несносно становится; а об отставке я не тужу: года через два или через год войду в службу, да и не к такому уроду.