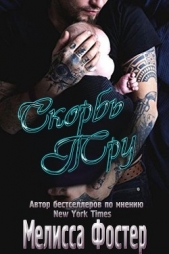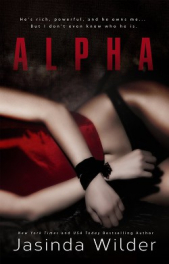Зрячий посох

Зрячий посох читать книгу онлайн
В основе повести «Зрячий посох» лежит переписка автора с известным критиком А. Н. Макаровым. Это произведение о времени и о себе, здесь нашли место заметки В. Астафьева о своем творчестве, о творчестве товарищей по перу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«…В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать. Юра Гончаров пытался помочь мне издаться в Воронеже, но из этого ничего не получилось. Говорят, что надо писать так, как, скажем, К. и Б. Но это же надо уметь так писать…»
«Пребываю преимущественно в лежачем положении».
«…А вот насчет «Советского писателя» — это все пустые хлопоты. Туда меня не пущают. И хрен с ними!»
«…Мне передали, как ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метро и протянуть руку, то вполне для меня реально, что поданный пятак будет сходить за три… Будь добр, черкни пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник».
Я как член редсовета данного издательства «содействовал» — и вот что получилось: «Прокушев, оказывается, как передал мне Миша Колосов, не считает возможным издавать меня в «Современнике», поскольку, видите ли, я не являюсь русским писателем (имеется в виду местожительство)».
«… Я не тот автор, которого привечают. На мне лежит какое-то проклятье, а за что — никто не знает. Сам я тоже… Я учусь ходить, читать и писать. Вот уже и устал…»
«…А на дворе, брат, весна. Кричат грачи, совокупляются воробьи, лают собаки, пробивается трава — все, как тыщу лет тому назад, и ничему нет дела до цензуры, ни до всего того, что страшно остохренело, измучило…»
Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию — ради «оптимизма», — видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, не малую, и уж совсем точно, не доделавший очень много, может быть, не написавший «главную» свою книгу, — о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть»…И всему роду твоему». По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкому проникновению в святая святых — душу человека даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.
Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое изумление, даже не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было — кто-то где-то на пути к дорогому читателю смахнул рассказ, заменил его сусальненькой, но модной тогда и правомерно теперь забытой повестью другого автора — кто-то где-то услышал, что автор «не того», — вот оно: «На мне лежит какое-то проклятье…»
Допустим, что это преувеличение истерзанного болезнью, одинокого человека, уже предчувствующего смерть. Но разве сие избавляет нас, после него живущих, от чувства вины? Думаю, что нет. Иначе чего бы засуетились издатели, писатели, критики, после смерти писателя начали его печатать,»привлекать внимание» к рано ушедшему незаурядному таланту? А что он был таков — никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его, самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:
«… Под вечер степь полнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы-борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась».
Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого, автора, какой он еще романтичный!
А теперь послушаем его последнее произведение, неоконченную повесть»…И всему роду твоему». И тоже начало. Делаю это сознательно — для сравнения:
«Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманноседая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может быть, только из-за этого перчатки сильно воняли…
Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски-роскошным рокотом, обдав его грязью, — шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненнозатихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу — второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежетрепетньш ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, а страшилось все тело, и больше всего — глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе — зачем они это проделывали?..
Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом — наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место…»
Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.
Между «тем» и «этим» началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне «проявляем заботу о ближнем».
Но почему-то мне хочется вернуться еще к той, ранней повести.
В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень уж круты, революционно-беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».
И вот «на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные подотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже».
И он, и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали отстреливаться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они останавливались, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса — повели за село. «На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему… Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками…