Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни
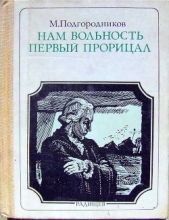
Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни читать книгу онлайн
Книга о трагической судьбе первого русского революционера, писателя-патриота, призывавшего к полному уничтожению самодержавия и крепостного права.
Рассчитана на школьников среднего возраста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он начал разбирать бумаги. Через несколько минут в дверь постучала Елизавета Васильевна: у нее было удивительное чутье, стоило Радищеву пошевелиться — она возникала рядом, тихая и преданная.
— Это надо бросить в печь. — Он положил руку на стопку отобранных бумаг.
Она молча взяла ее и пошла к двери.
— Но печь ведь сейчас не горит? — крикнул он, заподозрив ее хитрость.
Она повернулась к нему и отвечала твердо:
— Это плохая растопка. У нас есть чем разжигать печь.
Она улыбнулась ясно, открыто и понесла бумаги торжественно на вытянутых руках, как будто вносила их в грядущий век. Он хотел крикнуть, остановить ее, но промолчал, глядя вслед, как завороженный.
Потом послышались взволнованные голоса, в гостиной протопал кто-то тяжело и грубо, и в кабинет ввалился Семен, приказчик купца Зотова.
— Александр Николаевич, беда! Хозяина затаскали в Тайную экспедицию, сам Шешковский допрашивал.
— Пытали? — бледнея, спросил Радищев.
— Пытать не пытали, а только совсем худо, Александр Николаевич. Хозяин наказал передать вам: если будут вас допрашивать, продавали ли вы Зотову книгу, то скажите: нет, мол, не продавал, а книги из типографии пропали.
— Вздор. Если я так скажу, тогда станут таможенников пытать, не они ли украли. Выходит, я должен на своих друзей доносить. У твоего хозяина ум за разум зашел.
— И еще Герасим Кузьмич наказал, — неуверенно продолжал Семен, — чтобы вы говорили, что пятьдесят штук московскому купцу Сидельникову дали.
— Да кто поверит в московского купца! Нет, Семен, плохой ты посол! На тебе гривенник, выпей за мое здоровье, мне теперь скверно придется. Я не отопрусь, книга моя!
Семен убежал, а Радищев кликнул слугу Давида Фролова, велел открыть сарай и носить книги в дом, к печи. Елизавета Васильевна отошла в угол и безмолвно следила за тем, как Радищев открыл печную дверцу, взял книгу, положил ее на решетку и высек огнивом искру. Он поднес вспыхнувший трут к книге, и огонек, лизнув бумагу, погас. Радищев сидел с опущенной головой. Пропитанный селитрой трут трещал и дымился. Затем Радищев снова протянул руку, пламя весело охватило раскрытый, шевелящийся живыми страницами том. Радищев бросил в печь несколько экземпляров и быстро вышел. Давид Фролов продолжал казнь.
Радищев поднялся в кабинет и подошел к окну. По улице Грязной медленно катили повозки. При виде темной кареты с зашторенными окнами он невольно напрягся в ожидании: не за ним ли, — и вдруг, когда карета проехала мимо, почувствовал что-то, похожее на разочарование — пытка временем становилась невыносимой. С крыши, из труб на землю падал легкий черный пепел. Сгорала жизнь.
Она читала безотрывно. Было приказано никого не допускать вечерами. Открыла книгу на закладке, и первые же прочитанные фразы ее ударили. Прямовзора укоряла самодержавного владыку: "Ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины…"
Некоторое время подождала, пока пройдет волна обиды и бешенства. Потом четко, с нажимом написала как приговор: "Злость в злобном". Подумала и прибавила уверенно: "Во мне ее нет…"
Но раздражение вспыхнуло снова, когда она прочитала рассуждение автора о вольности. Хитер сочинитель: сначала будто с благожелательностью привел ее слова из "Наказа": "Вольностью должно называть то, что все одинаковым повинуются законам", а потом разразился бранью: "О законы! Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явное ли се вам посмеяние?" Посмеяние! Над чем смеется он? Над тем, за что ее благословляет российский народ…
Не щадит сочинитель монархов. Вот и против Ивана Васильевича Грозного вопиет: "Какое право имел царь присвоять Новгород?" Нелепый вопрос… Это право дал ему российский закон, который наказывает бунтовщиков и от церкви отступников. "Новгород, приняв Унию, предался Польской республике. Следовательно, царь Иван казнил отступников и изменников…"
Она сделала запись и засомневалась, потому что жестокость царя Ивана, конечно, расходилась с ее представлениями о милосердии. Вздохнула и приписала: "…в чем, поистине сказать, меру не нашел". И осталась довольна тем, что сохранила беспристрастность оценки.
Фраза на 125-й странице еще больше доставила ей удовольствия: "Асессор произошел из самого низкого состояния…" Низкого! Каков сочинитель? Стало быть, и он не чужд аристократического высокомерия. Он не весьма тверд в своих правилах.
Уличив сочинителя, она дальше читала с хорошим настроением. Страницы с описанием убийства помещика крестьянами Екатерина помечала: "Оправдание убийства… французский яд… толк незаконный" — и решительно записала вывод: "Все сие рассуждение легко можно опровергнуть единым простым вопросом: ежели кто учинит зло, дает ли право другому творить наивящее зло? Ответ: конечно, нет. Закон дозволяет в оборону от смертного удара ударить, но доказание при этом требует, что иначе нельзя было избегнуть смерти…"
Иначе нельзя было избегнуть смерти. Перо споткнулось и упало, и она бессильно откинулась к спинке кресла. Воспоминание восемнадцатилетней давности обрушилось на императрицу и смяло стройность рассуждений. Ее супруг Петр III был убит, хотя никому не угрожал смертью. И многие — она знала! — обвиняют ее в его смерти. Прежде всего Воронцовы. На спесивом лице Александра Романовича всегда укор, всегда вопрос. Черт их побери! святые братья, ревнители чести! Но ведь не ее вина — гибель Петра! Не ее… Это своеволие Алексея Орлова. Он убил Петра. Но можно ли упрекнуть солдата, защищающего государство, спасающего всех от безумия самодержавного пьяницы? Орлов тоже имел право ударить, обороняясь от смертного удара. Если бы он не ударил, Петр его бы повесил. И не только его.
Довод показался ей убедительным и вернул душевное равновесие. Да, государственные интересы требовали крайней меры, как она ни горька. Разве можно сравнивать случай 1762 года с тем, о чем вопиет сочинитель? Конечно, случаи несравнимы…
Она схватила колокольчик и позвонила.
— Пригласите Зубова, — сказала сухо, резко, как будто спрашивала министра финансов.
Вошел Платон. Несколько мгновений она молча разглядывала своего любимца. Потом сказала строго:
— Платон, скажите, плохо ли живется нашим крестьянам?
Удивление мелькнуло на лице Зубова, но он отвечал с важностью:
— Лучше судьбы наших крестьян нет во всей вселенной.
— Замечательно, — кивнула Екатерина и добавила: — С той только оговоркой: у хорошего помещика.
Истину нельзя было упрощать, пусть она живет во всем объеме. Зубов с неясностью во взгляде принял монаршее уточнение.
— Я так и запишу на полях — лучше судьбы наших крестьян нет во всей вселенной. Жаль, что не могу указать имя автора — Зубова…
— Ваше величество, я бесконечно рад раствориться в ваших мыслях… Сочувствую вашим мукам. Но книга эта не действие одного лица. У него есть покровитель — Александр Романович Воронцов.
Она пристально посмотрела на него. Зубов не любит Воронцовых. Семен Романович, английский посол, прислал недавно секретное письмо с требованием отказаться от приглашения из Англии пушечных мастеров-литейщиков, на чем настаивал Платон Зубов. Семен Воронцов утверждал, что такое приглашение испортит и без того натянутые отношения между Англией и Россией. Взбешенный препятствием, Зубов назвал Воронцова "английским шпионом". Она тогда сказала ему, что темпераментные выражения уместны в иных обстоятельствах, в политике они не годятся, и Зубов прикусил язык. Но сейчас он уверенно называет второго брата — Александра Романовича — покровителем злобного писаки.
— Монарх не должен унижаться преследованием людей, которые приносят пользу отечеству.
Назидательный тон ее слов смутил Зубова, и он с подчеркнутой покорностью склонил голову.


























