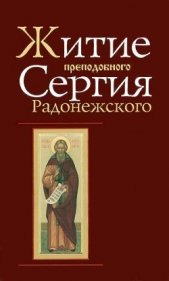Жизнь и судьба: Воспоминания

Жизнь и судьба: Воспоминания читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.
Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С настоящими художниками я тоже знакома. Целое событие — приезд Е. Е. Лансере к нам домой с портретом мамы. Не все же нам только изучать иллюстрации к «Хаджи-Мурату», и на живого художника не мешает посмотреть. Но Лансере — это давняя привязанность.
А есть и молодой блондин, красивый, изящный, живой (корни французские) Ростислав Николаевич Барто [81]. У него черноволосая жена швейцарка, Люция Августовна, и дочь, моя ровесница. Это милое семейство бывает у нас, или мы встречаемся у общих друзей.
Однажды мы с отцом и Ростиславом Николаевичем посетили по его приглашению выставку художников на Кузнецком Мосту. Сам Ростислав Николаевич в 1930-е годы считался формалистом, а художники этой выставки преодолевали формализм. Народу собралось довольно много, трудно было мне, девочке, что-либо понять, но я обратила внимание на три картины, висящие рядом, на одной стене, очень характерные. Две из них — копии. Одна копия известного небольшого полотна Леонардо «Мадонна Литта» (подлинник ее находится в Эрмитаже). Я знала его по альбомной открытке. Эту прелестную мадонну называли еще «Мадонной Бенуа». Я тогда этих тонкостей не знала. Так приятно было смотреть на эту картину, какая хорошая копия! А что же тогда сам подлинник?! Рядом висела тоже любопытная копия, «Черный квадрат» Малевича. Ну и ну, и что же это такое? Квадрат как квадрат. Я опять-таки не имела никакого представления о супрематизме и квадратах другого цвета. Такую копию и любой из нас мог нарисовать. Рядом для полного удовольствия висело нечто коричнево-зелено-черное. Называлась эта гадость просто: «Чаква. Сбор чая». Видимо, художник решил откликнуться на зов современности и представил трудовой процесс. Женщины в черном (то ли Абхазия, то ли Грузия) на чайных плантациях. Видно, очень тяжело и жарко бедным сборщицам чайного листа.
На всю жизнь запомнила я эту показательную развеску картин. Зачем все это? То ли устроители стремились показать какие-то исторические пути живописи на отдельных образцах, то ли противопоставить безыдейности квадрата и могучего, но идеологически неясного Леонардо трудовой коллектив социалистического общества.
Не знаю, что думал мой отец. Картин самого Ростислава Николаевича я совсем не запомнила. Может быть, их там и не было. Знаю только, что он считался формалистом, а с такими боролись. Но, видимо, отец что-то посоветовал Ростиславу Николаевичу, направив его кисть на дагестанские пейзажи и мотивы.
Ростислав Николаевич отправился в нагорный Дагестан, писал там этюды на пленэре и привез нам в подарок очень симпатичную, слегка напоминающую японцев «Ветку цветущей яблони» и уступами поднимающийся среди тополей родной аул отца Урахи. Не утерпел и отдал дань современности: в скудной тени деревьев сидит горец в папахе и читает газету. Забавно.
Вскоре Ростислав Николаевич написал маслом большой поясной портрет отца. Портрет висел в кабинете папы и нам совсем не нравился — уж очень мрачные краски и какой-то внешний. Куда делся портрет — не знаю. А цветущая бело-розовая ветка и домики горного аула висят у нас на Арбате вместе с зарисовками ингушских башен, подаренных археологом Щеблыкиным Леониду Петровичу Семенову. И недалеко от них совсем неплохо смотрится старинная темно-зеленая арабская настенная тарелочка из нашего давнего московского дома.
Пути наши с Р. Н. Барто перекрестились через многие годы, как иногда бывает. У нас на Арбате неожиданно возник университетский приятель А. Ф. Лосева, профессор-юрист Петр Николаевич Галанза, известный в ученых кругах Московского университета, обладатель огромной шестикомнатной квартиры в главном корпусе МГУ им. Ломоносова. Он одаривал Алексея Федоровича и меня своими книгами, однажды к новогоднему вечеру попросил разрешения привести своего друга. Этим другом оказался Р. Н. Барто. Неудобно мне было расспрашивать Ростислава Николаевича о его художнической карьере и семейных делах. С ним была некая дама, которую потом мы никогда не встречали. О прежней семье — ни слова. Эта встреча состоялась в начале 1960-х годов. С Петром Николаевичем мы время от времени виделись. Он занят был своими учеными статьями и птицами, которые обитали в одной из комнат огромной квартиры. Супруга Петра Николаевича умерла, жил он с дочерью, прекрасной пианисткой, но сам чувствовал себя одиноким и, как часто бывает у талантливых людей, стал выпивать — только водку, холодную, держал в снегу, хотя были холодильники. Все это навевало грустные мысли, встречи прекратились, пошел слух, что Петра Николаевича не стало.
И вот опять через много лет княгиня Кира Георгиевна Волконская [82] (с Кирой Георгиевной, чтобы не забыть французский, я занималась языком в 1970-е годы) устроила нам общую встречу с Ростиславом Николаевичем Барто, своим давним знакомым. Мы с Кирой Георгиевной приехали к Ростиславу Николаевичу, и оказалось, что он муж дочери Петра Николаевича Галанзы. Вечер прошел прекрасно. Лариса Петровна играла нам Скрябина, Ростислав Николаевич угощал своими картинами. Он — художник-портретист, график. Портреты, которые он демонстрировал, оставили впечатление чего-то интересного, но не запоминающегося, как бы мимолетного, над чем не задумаешься. Он увлекается птицами, и те щебечут в одной из комнат, как и раньше. Он член Московского союза художников, все такой же изящный, красивый, любезный. А через два года, в 1974 году, Ростислав Николаевич скончался. На память о «позднем» Барто у меня прекрасная автолитография гравюры «Море», рисунок цветущей вербы и пригласительный билет в клуб станковой графики МОСХ’а на вечер художника Р. Н. Барто. Все в тот же Дом художника, Кузнецкий Мост, 11. 27 января 1972 года в 19 ч. 30 м. Печально.
Но если есть археология, балет, книги, стихи, журнал, повести, дневники, художники и писатели, то где же музыка? Как же без музыки?
Палисандровое пианино отдали в музтехникум при отъезде в Москву. А здесь, говорят, купить не так просто. Мама не уверена, что можно найти хороший инструмент, вроде Блютнера и Беккера. Это на ее памяти хорошие инструменты, уже к Рённшу (такой рояль у моей подруги Туей) мама относится с недоверием. К тому же в нашу квартиру — только пианино. И тут отцу приходит в голову: а почему бы не посоветоваться со старым добрым другом еще по Дагестану, Яковом Васильевичем Коробовым? После революции он жил в Москве, у него деловые связи с Ленинградом, и он там даже чуть ли не директор фабрики музыкальных инструментов. И вот в один прекрасный день 1933 года в нашу квартиру на пятом этаже без всяких лифтов втаскивают блестящий черным лаком инструмент. Для него уже приготовлено удобное место. Открываю с трепетом крышку и сразу огорчаюсь. Да это «Красный Октябрь» — стоило ли везти из Ленинграда? Но Яков Васильевич разъясняет, что это самый настоящий Беккер [83]. Сохранились запасы дореволюционной фирмы музыкальных инструментов Беккера. Теперь их облекают в новую оболочку и ставят штамп «Красного Октября». Зовем специалистов, проверяем. В один голос говорят — инструмент звучный, сочный, тон хороший, все в порядке. Надо сказать, что Яков Васильевич — человек подлинного благородства. Когда мы остались без отца и нас стали сторониться, он навещал маму и помогал, чем мог.
По совету Эльвиры Целлер (училась в консерватории) и соседки с первого этажа Ларисы Веремеевой (училась у хорошего преподавателя) приглашаем Елену Васильевну Каменцеву. Она приезжает из Раменского, а это Казанская дорога, ехать больше часа. Пройдут годы, и мы будем с Алексеем Федоровичем жить летом у станции Отдых, сравнительно недалеко от Раменского.
Я встретила фамилию Елены Васильевны совершенно неожиданно в 1963 году, когда любимый ученик Алексея Федоровича по консерватории, профессор Сергей Сергеевич Скребков, принес нам в подарок от своей семьи небольшую интересную книжку — Е. А. Бекман-Щербина «Воспоминания».
Елена Александровна (1882–1951) была замечательной пианисткой выступала в концертах вместе с крупнейшими музыкантами, такими как Иосиф Гофман или Скрябин, который считал, что Елена Александровна лучше всех исполняет его произведения. Училась у известных учителей в консерватории, у Н. С. Зверева, П. А. Пабста, В. И. Сафонова. Она родилась в семье Александра Лукича Каменцева, потеряла мать через несколько дней после своего рождения и воспитывалась в доме тетки, сестры матери, бывшей замужем за Евгением Николаевичем Щербиной, чью фамилию Елена Александровна носила всю жизнь [84]. Жена Сергея Сергеевича Скребкова — дочь Елены Александровны Бекман-Щербины, искусствовед и музыкант, дочь Марина, почти моя ровесница, теперь уже консерваторский профессор. Так я сделала заключение, что Елена Васильевна Каменцева — родственница пианистки Бекман-Щербины по отцу. Именно теперь я понимаю, почему с таким уважением относились к моей учительнице музыки очень строгие сестры Гнесины — Елена, Ольга и Евгения Фабиановны.