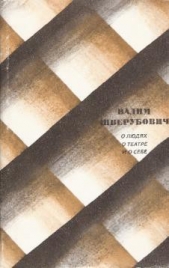Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре
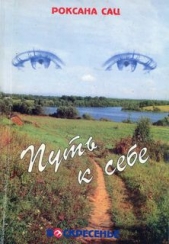
Путь к себе. О маме Наталии Сац, любви, исканиях, театре читать книгу онлайн
Автор книги Роксана Сац — дочь легендарной Наталии Сац, основательницы первого в мире драматического, а затем первого в мире музыкального театра для детей. Роксана Николаевна пережила арест матери, тяготы детского дома в военное лихолетье. Непросто сложилась и ее дальнейшая судьба… В книге много ярких событий, встреч с неординарными людьми, личных переживаний.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как долго, бесконечно долго колесит «Скорая» по ночному Саратову. Одна больница, вторая, третья. Нет! Не могут они больше принять ни одного человека. Подъехав к четвертой, ни у кого ничего спрашивать не стали, а прямо понесли в приемный покой.
— Ксана! Ксана! Ты слышишь меня? Открой глаза, ты видишь меня, Ксана?
Как тяжело, оказывается, поднимать веки, разжимать губы и сказать одно единственное слово:
— Вижу…
— Я уезжаю, Ксанка. Еду на фронт в Сталинград. Но ты обязательно должна выздороветь, понимаешь, должна…
Какое неспокойное слово «должна», оно ввинчивается в тебя и буравит, стучит в висках, словно перестук колес бегущего поезда, который должен был тебя куда-то везти, но куда и зачем ты уже не знаешь.
— Что с этой-то делать, ни в палате, ни в коридоре ни одного места.
— Пусть тут лежит, к утру все равно умрет.
Я это слышу, я понимаю, что говорят про меня, но меня это нисколько не пугает — наоборот: умереть, значит, наконец, вытянуться, значит покой, полный желанный покой. Но что-то внутри меня не соглашается, что-то копошится, сопротивляется, что-то тревожит и стучит: должна, должна.
— Пи…ть, — вдруг произносит сухой, шершавый, какой-то совсем отдельный от меня язык. — Пи…ить…
Видно, кто-то меня услышал, потому что чьи-то руки поднимают голову, подносят чашку к губам и осторожно держат. Вода такая горячая, что эти руки с трудом удерживают чашку, но я этого не чувствую: хотя голова у меня пылает, в груди поселился ледяной змей, который изо всех сил сдавливает, стремясь обратить в лед мое сердце.
— Пи…ить, — снова просят губы, и снова те же руки приносят и помогают. Кружка за кружкой вливаю я в себя клокочущий кипяток, и ледяной змей чуть разжимает свои объятая.
— Федор Иванович, девчонка вот тут…
— Знаю, тетя Маша. Тиф у нее и двустороннее воспаление легких, не стоит и трогать.
— Так ведь пятый день в приемном покое лежит, кипяток ей ведрами таскаю. Может, в палату ее? А ну отлежится?
— Где тут. Ну да ладно, несите к самым тяжелым.
Тетя Маша! Ты была просто нянечкой… Много раз пыталась вспомнить твое лицо и не смогла. Только старый платок, морщины и руки, которые все время что-то терли, мыли, выносили судна… Но это благодаря тебе, твоим рукам не один безнадежный больной становился прежде тяжелым, затем выздоравливающим и затем покидал больницу. Это благодаря тебе я, наконец, вздохнула полной грудью, посмотрела вокруг, попыталась сесть.
Две недели не отходила тетя Маша от моей постели. Две недели обкладывала грелками, поила кипятком с желтыми кубиками пайкового сахара, гладила натруженной рукой бритую наголо голову, две недели шаг за шагом выцарапывала, отвоевывала у смерти.
— А ведь девчонка-то выкарабкалась, — скажет однажды на обходе главный врач Федор Иванович. — Вот ведь живучая!
А чудеса все-таки бывают
— Ты спишь? Проснись! Проснись скорей!
Я села на кровати — какой уж тут сон, смотрю на разбудившую меня соседку по палате Ларису. У нее лихорадочно блестят глаза, ярким румянцем полыхают щеки. Не нравится мне это полыханье, неужели опять начинается приступ?
— Ты его видела? — спрашивает она.
— Кого?
— Летчика. Вот здесь, на твоей кровати только что сидел… «Люблю, — говорил мне, — больше жизни».
Я оглядываю кровать, но никаких следов пребывания летчика не обнаруживаю. Видя мое недоверие, Лариса вскакивает, тычет в пустое пространство, горячась все больше:
— Да вот же, вот здесь он сидел.
— Тише! — прошу я, — ты всех перебудишь! — И с тревогой смотрю на две другие кровати, где спят плаксивая пухлая Лялечка, каждый день отыскивающая у себя новые болезни, и необъятная Евгения, скандалистка и матершинница. Лариса тоже боязливо взглядывает туда, где колышется бесформенной массой Евгения, но, увидев, что та спит, продолжает:
— Цветы мне принес. Розы. Одни красные.
Я смотрю на Ларисину тумбочку, там нет ничего, кроме щербатой чашки. Перехватив мой взгляд, Лариса говорит еще горячей:
— Только я велела обратно унести. Не хочу, чтобы симулянтка и эти (кивок в сторону Евгении и Лялечки) завидовали.
Лариса воодушевляется все больше, рассказ о влюбленном летчике расцвечивается новыми умопомрачительными подробностями. Она говорит все быстрее и громче, она уже не видит меня, не слышит самой себя, речь становится бессвязной, движенья неверными.
Как ни пытаюсь успокоить Ларису, на этот раз мне это не удается. Вот подняла с подушки патлатую голову Лялечка, сразу захныкала:
— Это невыносимо, я с таким трудом уснула…
А вот с кровати спускает жирные ноги Евгения — я с опаской слежу за ее действиями. Евгения пока молчит, но ее рука тянется к звонку, — так и есть, вызывает дежурного врача. Услышав звонок, Лариса почему-то сразу успокоилась. Испуганно и уже вполне осмысленно огляделась и юркнула под одеяло. Но Евгения уже «вошла в раж»: громко, во всю свою могучую глотку, чтобы слышали в соседних палатах, орет, понося всех, кто допустил сумасшедшую к «здоровым больным», требует убрать ее «немедля в психушку подальше от людей», угрожает жалобами, потрясает кулачищами над изголовьем совсем уже не видной и не слышной Ларисы.
Наконец, в палате снова наступает тишина. Могучий храп Евгении, посапывание Лялечки, чуть слышное дыхание Ларисы, каждый спит, как может, только мне не спится. Мне нравится Лариса, она напоминает Тамарочку. Такие же серые грустные глаза, такая же робкая, добрая, деликатная. Если бы не эти приступы… Но больна она серьезно, и, как говорят врачи, возникла болезнь от нервного потрясения. Муж Ларисы погиб на ее глазах во время налета немцев на станцию, где формировалась его часть. Они только что попрощались, он побежал к своей теплушке, но в это время появились фашистские мессеры… Лариса видела, как один из них стал стремительно снижаться прямо над ним. Видела, как из брюха самолета вывалилась бомба, слышала грохот взрыва… А потом только огромная воронка на том самом месте, где только что был он.
В обычные дни, когда болезнь отступала, Лариса вспоминала мельчайшие подробности недолгой жизни со своим Петей, рассказывала, как они встретились, вспоминала, что он ей говорил. Слова были простые и нескладные, ничего общего не имеющие с теми пышными, страстными клятвами, которые произносили «навещавшие» Ларису во время ее галлюцинаций щеголеватые лейтенанты-летчики или бравые капитаны-танкисты. А Петя был обыкновенным пехотинцем, рядовым…
Евгения все же добилась своего: в конце концов, Ларису увезли в больницу для душевнобольных, а на ее место, по настоянию той же Евгении, из соседней палаты перевели бесцветную старушонку, всецело поглощенную своей грыжей.
Без Ларисы мне стало совсем одиноко, к тому же нестерпимо мучил голод. Главный врач больницы Федор Иванович во время обхода часто повторял:
— Вообще-то тебе прежде всего надо хорошо питаться, — и даже давал этому научное объяснение: у выздоравливающих после брюшного тифа в организме происходят какие-то процессы, в результате которых возникает острая потребность в пище. Если эту потребность не удовлетворять, почти обязательны осложнения в виде язвы и других болезней. Но беда в том, что, кроме научных объяснений, максимум того, что мог сделать Федор Иванович, это выписать дополнительно полчашки супа из мороженой картошки.
Как мне не хватало сейчас тети Маши, выходившей меня. Уж она бы расстаралась лишней картофелиной на кухне да и от себя бы оторвала кусочек хлеба. Но тетя Маша уехала к дочери в Ташкент, больше надеяться было не на кого.
Время. Как оно томительно тянется — от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Особенно трудно не заглянуть в тумбочку, где лежит хлеб. Его выдают утром, сразу всю пайку — 300 грамм. Каждый раз я даю себе слово есть хлеб только за завтраком, обедом и ужином, разрезаю пайку на три части, но как-то так получается, что уже к обеду в тумбочке не остается ни крошки. И вот тянется и тянется день, затем наступает бесконечный вечер. Я слоняюсь по коридору, смотрю в окно, ложусь на кровать, чтобы как-то отвлечься, чтобы перестать думать о том, как я хочу есть. Конечно, лучше всего скорее заснуть, а для этого кто-то говорил, нужно считать слонов, представляя себе каждого из них. Вот он первый слон, я вижу его — идет, медленно переставляя ноги-тумбы. У него крохотные свиные глазки и змеиный хобот, который все время что-то ищет. Из толпы, окружившей слоновник, кто-то бросает ему яблоко. Как ловко слон поймал его хоботом, как деловито заложил в розовый мешок рта и снова просит подачки. «Можно, я что-нибудь ему брошу?» — спрашиваю я рядом стоящего папку. — «Конечно», — отвечает он и протягивает мне только что у входа в зоопарк купленный бублик. С ломкой корочкой, еще теплый, обсыпанный маком. Но нет — я ни за что не брошу такой слону, я сама его съем. И я уже разламываю бублик, подношу ко рту и… просыпаюсь.