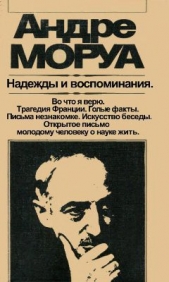Жизнь, подаренная дважды

Жизнь, подаренная дважды читать книгу онлайн
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Об общежитии я мечтал, но не давали мне там койки, считалось, я — москвич. Весь институт и его общежитие, да еще и Литфонд, и портняжная мастерская Литфонда — все это помещалось тогда, теснилось в бывшем Доме Герцена. Так что вроде бы и требовать совестно. Но, как говорится, подошла вода под горло, и нашлось место, я переехал в общежитие. Там, к вечеру следующего дня, разыскала меня моя тетка Берта Григорьевна, принесла завернутую в газету литровую стеклянную банку: картошка с капустой, с луком, с постным маслом. Она еще и виноватой себя чувствовала, что мне пришлось уйти.
К началу второго курса всех поразил Владимир Тендряков: в институтской стенгазете сообщалось, что за лето он написал двадцать две главы. На него ходили смотреть. Мы с ним — одногодки, и оба были ранены в левую руку. Только у меня два пальца не разгибались, а у него — четыре. После ранения он демобилизовался в 42-м году. Оба мы ходили в сапогах, гимнастерках, в галифе. Но у него галифе, чтоб не протирались, были подшиты кожей сзади и изнутри. Кожей от портфеля.
В общежитии хорошо было то, что вечерами можно было писать в пустой аудитории. Тендряков добывал ключ от кабинета завуча, запирался, писал там допоздна, случалось, там же и спал на золотистом плюшевом диванчике. Однажды, придя на работу, завуч застал его спящим. Дружил Тендряков с Солоухиным. Оба — Владимиры, оба — светловолосые, оба — из деревни, чем не друзья. Но были они совершенно разные люди, это станет ясно не сразу. Солоухин всю войну охранял Кремль. Он сам рассказывал, что те, кто с ним вместе призывались и проходили медкомиссию, были отправлены на фронт, большинство из них погибло, но он будто бы на медкомиссии прочел стихи, и это явилось решающим: его оставили охранять Кремль. Возможно — так, возможно, не последнюю роль сыграл тут дядя, который уже служил в охранниках. Рассказывал Солоухин, что самим Черчиллем был отмечен: сойдя с трапа самолета, Черчилль обходил почетный караул, вглядывался в лица и остановился, пораженный зверовидной физиономией солдата.
Дружба, как известно, сродни любви и так же слепа. Тендряков, выгораживая товарища, рассказывал со слов опять же Солоухина, что их, кремлевских охранников, специально отправляли в командировку на фронт: убить одного немца. И сам в это верил и обижался, когда фронтовики смеялись: что, мол, им немца на веревке приводили убивать?
Раньше всех нас Тендряков стал хорошо известен, он написал повесть «Падение Ивана Чупрова», это было в дни хрущевской оттепели, повесть стала событием, о ней много писали, и, кстати говоря, одну из первых рецензий написал Чаковский. Была в ней такая фраза: «Автор не все мысли выписывает на фасаде здания». А Солоухин в это время еще только ездил в командировки от журнала «Огонек» (редактором которого был Софронов), писал стандартные очерки. Такими же примерно литподелками пробавлялся еще один наш однокурсник, фамилию его упоминать не будем, а вот частушка, сочиненная про него, тут вполне к месту: «Эх, товарищ …ков, / Что ты сделал для веков? / Ничего векам не сделал, / Прославлял большевиков».
И Солоухин, и Тендряков после института стояли на партийном учете в парторганизации «Огонька». И вот — партийное собрание. Они сидят рядом, два друга, близится Новый год, они договариваются вместе встречать его. А одно из дел, которые должны разбирать на собрании, — письмо бывшей жены Тендрякова, с которой он разошелся. Обычно такие дела разбирали неохотно: разбитого не склеишь, любить не заставишь. В этом духе и выступали, больше для проформы. И вдруг подымается Солоухин, а сидел он, повторяю, рядом с Тендряковым, подымается и, окая сильней обычного (в определенные политические моменты, например во время «космополитов», с ним это уже случалось), говорит, что он не согласен с выступавшими товарищами, что это дело серьезное, аморальное и он, Солоухин, требует строгого партийного взыскания. Пораженные, перетрусившие «выступавшие товарищи» срочно начинают выступать заново, каются, что подошли либерально, что им надо учиться принципиальности у молодого коммуниста Солоухина. Это — дословно.
Разумеется, все они понимали, что о принципиальности тут и речи нет: успеха своего однокашника не смог пережить «молодой коммунист», в ложке воды попытался утопить. Но какое же партийное собрание без фарисейства, без фальши и лжи? В дальнейшем Солоухин будет расходиться со своей женой Розой, но крепче брачных уз окажутся цепи золотые, связавшие их: иконы не смогли разделить, которые он добывал в заброшенных церквах, за бесценок скупал у старух по деревням, на чем и составил себе состояние.
Году в 90-м, когда я редактировал журнал «Знамя», была у меня встреча с читателями в Доме медработников, и вот записка, которую я получил: «Уважаемый Григорий Яковлевич! Огромное спасибо Вам за публикацию рассказа Тендрякова «Охота». Я не люблю слова «преклоняться», но перед Тендряковым я преклонялась и при его жизни. А прочитав рассказ у Вас в 9-м номере, я хочу сходить к нему на могилу, положить цветы. К стыду своему, точно не знаю, на каком он кладбище похоронен. Скажите, на каком кладбище он похоронен. Покрас В. В. Инженер».
На нашем курсе из двадцати человек пятеро были из стран, как тогда называлось, народной демократии. Название вполне бессмысленное, поскольку demos — народ, kratos — власть. Народного народовластия? Посылали их в Советский Союз как в кузницу кадров, и многие из них в своей стране занимали в дальнейшем большие посты. Георгий Джагаров, далеко не бесталанный человек, руководил Союзом болгарских писателей, потом в государственных структурах поднялся высоко. Как-то приехал я в Софию. Лето. Жара. Стою на балконе. В левом крыле гостиницы не селили приезжих, там — особая партийная гостиница для соответствующих партийных и государственных чинов, особый ресторан внизу: все точно, как у нас в то время. Вижу с балкона: выходит оттуда Джагаров. Машина его, большая черная машина, метрах в двадцати, но он не пошел к ней, машина задом двинулась к нему. Он стоит в синем шерстяном костюме, пообедавший, солнце жжет. «Оште малку, оште малку…» Передняя дверца поравнялась с ним, распахнулась изнутри, он сел. А еще есть у меня фотография: дворцовый зал, красный гигантский ковер под ногами, выстроившиеся на отдалении делегации, Георгий Джагаров от микрофона обращается к нам ко всем с приветственной речью. Потом мы с ним шли, разговаривали, но у выхода из дворца — охрана. И в ее присутствии он перешел на болгарский язык: должность обязывала.
Учились на нашем курсе два албанца: Лазар Силичи и Фатмир Гьята. Их встретил я в 64-м году, когда отмечали двадцатилетие Словацкого восстания. Мы шли по улице: Эренбург, Полевой и я. Увидев нас, они перешли на другую сторону: мы для них были — ревизионисты. Сталин умер, но в Албании царствовало маленькое его подобие: Энвер Ходжа.
Трагично сложилась в дальнейшем судьба северокорейского студента Се Манира. Он учился на курс младше меня, и такой он был благополучный. Невысокого роста, полный, лицо как круглая луна. В комнате общежития, где было нас человек пять, мы старались не смотреть, как он завтракал: полкастрюльки белого риса, в пальцах — розовая вареная колбаса, ею он закусывал рис, ее чесночный запах мы вдыхали. «Пойдем к бабушкам», — бывало, просил он, выпивши. То есть — к бабам. На одном курсе с ним училась Леля Берман, в прошлом — дочь богатых еврейских родителей в Литве. Потом пришли немцы. Гетто. «Я курила махорку, чтоб не слышать, как от меня воняет», — рассказывала она. Ей удалось бежать из гетто, она была партизанской связной, несколько человек вывела из гетто в партизанский отряд. Литва и Северная Корея, два конца света, два разных мира. Тем не менее Леля и Се Манир поженились, уехали в Пхеньян. Лет десять — двенадцать ничего о них не было слышно. Вдруг Леля звонит по телефону, пришла к нам домой. Она собирала теплые вещи, рассказывала, что зимой в Пхеньяне люди ходят в калошах, рассказывала, какой там голод: царствовал там другой наследник Сталина, «великий вождь» Ким Ир Сен. Только тем и жива была их семья, что Леле, советской гражданке, полагался паек.