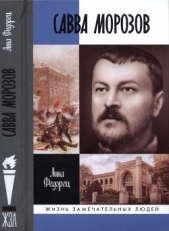Савва Мамонтов

Савва Мамонтов читать книгу онлайн
Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.
Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Елизавета Григорьевна устремилась в комнаты, но Воки не было.
Савва Иванович сказал виновато и не без тревоги:
— Лиза, я не говорил тебе, Вера Владимировна в своей Любимовке. Она желает, чтобы ты за Вокой сама приехала.
Елизавета Григорьевна прижалась к Савве Ивановичу и всплакнула на его плече.
— У меня вылетело из головы. Я так по нему стосковалась.
За обедом ее удивили сливки.
— Как вкусно! Или это после заграничной кухни?
— Нет, Лиза, волшебные сливки готовит наша Прасковья. Петр Иванович нанял скотника, Иваном зовут, поселил семейство во флигеле. Прасковья и ее дочки также мастерицы ухаживать за коровами — на удивление. Не преувеличиваю, но коровы молока дают вдвое, и, по-моему, яйца стали крупней.
Утренний поезд доставил гостей. Приехали Петр Антонович Спиро, Иван Александрович Астафьев, Семен Петрович Чоколов — инженер-путеец, сотрудник Саввы Ивановича, и с ними Николай Григорьевич Рубинштейн.
Спиро привез ноты фортепьянной пьесы Мусоргского.
— Это, видимо, первое сочинение Модеста Петровича, — обрадовался Рубинштейн. — Фирма Бернард, 1852 год. Автору, наверное, лет пятнадцать всего было.
— Гартман дал ноты, — сказал Спиро. — Он помешался на Мусоргском. И еще хор из «Эдипа».
— Хор — это для нас, — загорелся Савва Иванович.
Попробовали, еще попробовали — получилось.
— Как хорошо, — смеялась Елизавета Григорьевна.
— Подожди, Лиза. Дай время, оперу поставим.
Музыка в тот день торжествовала. Савва Иванович был в ударе, пел с Петром Антоновичем дуэтом, играли в четыре руки и, раззадорив Рубинштейна, уступили ему место у рояля.
Николай Григорьевич исполнил концерт Моцарта и тотчас пьесу Сальери. И — «Лунную сонату».
— Солнечный вариант, господа!
Вечером Николай Григорьевич опять сыграл «Лунную», но иначе. Стало понятно, какая великая разница между луной, видимой на небе при солнце, и луной — владычицей ночи.
— Савва, Савва! — только и сказала Елизавета Григорьевна, когда они остались вдвоем. — Боже! Что умеет музыка. Мне мало дышать, жить. Я желаю быть ответчицей перед Богом. Я желаю трудиться.
Савва Иванович промолчал. Он об этом тоже успел позаботиться. В Москве Елизавету Григорьевну ожидала почетная должность попечительницы Хамовнического училища.
Вока, увидев мать, сделал к ней движение, но засомневался, прижался к бабушке.
— Сыночек! — Голос у Елизаветы Григорьевны дрогнул.
— Держи, держи свое сокровище, — сказала Вера Владимировна. — Здоров, покоен, любит петь песни.
Может, и вправду подействовала музыка, исполненная виртуозом Рубинштейном, но Елизавету Григорьевну посетил Ангел добрых дел. Принялась устраивать для крестьян лечебницу. Взяла на работу опытного фельдшера Степана Никифоровича. Он мог и роды принять, и сделать несложную операцию.
Сумела Елизавета Григорьевна обеспечить крестьян и более солидной врачебной помощью. По воскресеньям в лечебницу стал приезжать доктор Дородин Григорий Григорьевич. В воскресенье у фельдшера был выходной, и доктору помогала сама Елизавета Григорьевна.
После трудов праведных обедали. Доктор любил подняться в комнату Гоголя, где изрекал какую-нибудь мудрость, но в гостиной притихал, взгляд его становился недоверчивым.
— Господи, здесь сиживал Тургенев! Перун отечественной словесности. Я в его кресле. Эти половицы прогибались, когда отплясывал гопак Гоголь. Врачу нельзя быть мистиком, но мне чудится, граны воздуха, коим дышал автор «Записок охотника», все еще витают здесь.
— Как бы эти граны не проглотил Бока! — показывал Савва Иванович на щенка, который был подарен Сереже и которому позволялось жить в комнатах.
Антокольский приехал в Абрамцево с Гартманом. Савва Иванович встретил дорогих гостей на станции. Гартман сиял улыбкой и представил Мамонтову Антокольского.
Рука у Марка Матвеевича оказалась маленькая, детская, но это была очень сильная рука. Они, улыбаясь глазами, не скрывали, что уже до встречи нравились друг другу и не обмануты.
«Он хрупок, как японский фарфор», — подумал Мамонтов.
«Кряж», — решил Марк Матвеевич.
— Я рад, — сказал Гартман. — На том свете один грех с меня скостят: я соединил два родственных сердца. Вы, наверное, ровесники, дети мои.
— Посмотрите на патриарха! — поднял руки к небу Савва Иванович. — Мне, милейший Виктор Александрович, тридцать! В октябре разменяю четвертый десяток.
— Мне исполнится двадцать девять, и тоже в октябре, — сказал Антокольский.
— Какого числа?
— Двадцать первого.
— Мне — третьего. Тетушка моя возражает, ей кажется, что я родился второго, но отец дарил мне подарки третьего, — смеясь, обнял Гартмана. — Вам, преклонному годами, сколько я знаю, до сорока еще жить да жить?
— Два года всего.
— Два года — вечность! За два года вы таких дворцов настроите!
— Если буду на Мамонтовых работать, о дворцах лучше не думать.
Гартман заканчивал строить на Лубянской площади типографию для Анатолия Ивановича, а за городом — дачу.
— Если будет заказ от меня, — сказал Савва Иванович, — то только на дворец. Не прибедняйтесь, Гартман! Марк Матвеевич, он водил вас на выставку?
— Не успел. Я обещал Елизавете Григорьевне — первый визит в России будет отдан вашему дому.
— Благодарю, — поклонился Савва Иванович. — Но выставку обязательно посмотрите. Она хоть и политехническая, да Гартман на что ни поглядит — все превращается в искусство. Каков у него военный отдел! Какое плетение орнамента — языческая, колдовская грамота, в которой заключены все разгадки прошлого и будущего России. Я, когда смотрел, все прислушивался — не зашумит ли крыльями птица феникс? А какие образцы древнего зодчества! А театр? Деревянный театр на той же Лубянке!..
— Театр, к сожалению, временный, в рамках выставки, — начал объяснять Гартман.
— Ваш театр — диво-дивное. Дали бы мне русскую оперу, про Царевну-лягушку, про Бову, про Илью Муромца — я бы сам эту оперу поставил… Именно в вашем театре! Как ведь можно размахнуться, Господи. А всего и надо — захотеть! Вспомнить всем народом — да ведь русские мы! Вытряхнуть, выставить из чуланов, из амбаров красоту нашу русскую.
— Да вы русофил, Савва Иванович! — воскликнул Гартман. — Это аксаковский дом на вас так действует.
— Может быть, и Аксаков, но в первую очередь вы, Виктор Александрович! Меня, как и вас, в Италию тянет. Но то, что своего не ценим, не любим, — обидно. Вы это не только поняли, вы нас носом ткнули в свое собственное величие. А на выставку Марка Матвеевича сводите.
— Как его не сводишь, — рассмеялся Гартман. — Выставка-то Петру посвящена. Двухсотлетию со дня рождения.
— Я «Петра» привез, — признался Антокольский. — Отлил в гипсе.
— Так что же вы нас не приглашаете?
— Не хочется портить настроение хорошим людям. Вот послушаю, за что ругают, поправлю, отолью в бронзе — тогда милости просим.
Елизавета Григорьевна вышла к гостям с сыновьями.
— Сережу помню, — говорил Марк Матвеевич, здороваясь за руку, — Дрюшу помню, а ты — Вока?
Вока смотрел на гостя во все глаза. Гость отошел на середину комнаты и в тишине, полной ожидания, спросил:
— Дети! Милые дети, вы хотите быть умными?
— Хотим! — закричали Сережа и Дрюша.
— Так будьте! — сказал Марк Матвеевич.
Взрослые почему-то смеялись, а дети, ожидавшие чуда, никак не могли понять, что же все-таки надо сделать, чтобы стать умными.
Гартман привез ноты. Он, влюбленный в музыку Мусоргского, раздобыл несколько фрагментов из оперы «Борис Годунов».
— Нет! — запротестовал Савва Иванович. — Сначала отобедаем. Мы в России, и порядки надо соблюдать русские.
Стол был уже накрыт, на столе — осетр, пирог с грибами, братина, наполненная чем-то пенящимся, возле каждого прибора — серебряный нож.
— Вот бы Стасова сюда! — засмеялся Марк Матвеевич. — Он мне дорог и близок. Я помню, с какой страстью поддержал Владимир Васильевич мой горельеф «Еврей-портной». Почти миниатюра, дерево, а он молнии пошел кидать. Да уничтожится ложь, ходули, идеальничание в мире ваяния! Стасов увидел в этой совсем не броской работе — искусство, а вот Бруни желал убрать с выставки моего бедного еврея… Беда русских в природной застенчивости. Доброе слово о себе клещами не вытащишь. Ну так я не русский, мне поклоняться Стасову за его труд повивальной бабы, принимающей роды русской живописи и музыки, не стыдно.