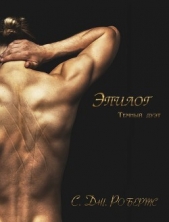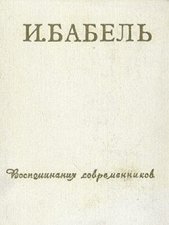Воспоминания о Бабеле

Воспоминания о Бабеле читать книгу онлайн
Сборник воспоминаний о И. Э. Бабеле. В книгу включены записи свидетельств современников (Ф.Искандер, Лев Славин, К. Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов, вдова писателя А.Н. Пирожкова, Татьяна Тэсс и др.), которые позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность его личной судьбы и яркость его художественного мира.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Революция. Хозяева конюшен исчезли, бега кончились, лошади реквизированы. Братья уехали за границу. Старший вернулся прямо в Соединенные Штаты и сейчас же получил хорошее место. А младший поехал в Париж и с таким треском прокутил здесь свои деньги, что остался без гроша. В это время в Америке случился очередной приступ ханжества и лицемерия, а так как похождения Винкфильда-младшего были действительно скандальны, то американский консул сообщил о них на родину, и, вернувшись туда, он нигде не мог устроиться. А другие тренеры раздували эту историю, побаиваясь талантливости Винкфильда-младшего. Его, голодного, подобрал какой-то фермер, у которого была крошечная провинциальная конюшня с десятком лошадей. Винкфильд-младший чувствовал себя так. как царский гвардейский офицер, разжалованный в солдаты, но не на Кавказ, а в какой-нибудь Царевококшайск. Владельцы конюшен, тренеры и жокеи с ним не встречались, не разговаривали и не кланялись.
Так прошло года два. Фермер как-то сказал свому тренеру, что хотел бы продать кобылку, что о втором годе, так как убежден, что толку от нее не будет. Винкфильд-младший ответил, что если фермер не будет дорожиться, то он, пожалуй, купит ее сам.
Он начал готовить свою кобылку и тайком записал ее на целый ряд бегов. И когда ей исполнилось два года, она стала выигрывать один приз за другим. Словом, к концу сезона она сделалась лучшей двухлеткой в Соединенных Штатах.
Фермер сказал Винкфильду: «У меня есть жеребчик, брат этой кобылки, он на год старше. Я уже махнул на него рукой. Но, может быть…» — «Хорошо, ответил Винкфильд, — но призы пополам». Это были неслыханные условия, но фермер сообразил, что они для него все-таки выгодны, и жеребец-трехлетка повторил карьеру своей сестры.
С Винкфильдом-младшим стали раскланиваться, разговаривать и встречаться. На него посыпались лестные предложения. Но прежде, чем принять одно из них, он на все накопленные деньги заказал в «Вальдорф-Астории», самой большой гостинице в мире, роскошный банкет, с русской икрой и французским шампанским. Он пригласил владельцев конюшен, тренеров и жокеев. И они пришли, набился полный зал, потому что удача — это удача, а шампанское — это шампанское.
— Ну что, сукины дети, можно зарыть чужой талант в землю?
— Смотрите, — сказал вдруг Исаак Эммануилович, — а проститутки все стоят. Ни одна не нашла клиента.
Ф. Левин
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Говорят, что первое впечатление самое верное. Так бывает не всегда. Но бывает. По крайней мере, у меня.
Есть в Москве широкий и короткий Копьевский переулок. На одном конце его здание, в котором ныне Театр оперетты. Другим концом переулок выходит к Большому театру. Здесь в угловом доме на первом этаже в начале тридцатых годов занимало две или три комнаты издательство «Федерация». Проходя теперь мимо, я вижу мутные окна, заколоченную дверь и вспоминаю, с какой робостью и с каким уважением входил я некогда сюда. Здесь перебывали многие и многие ныне живущие и уже умершие знаменитые писатели. Сюда я приходил в 1932 году: мне поручали рецензировать рукописи.
Однажды летом я сидел здесь у окна, перелистывая какую-то рукопись. За столом просматривал деловые бумаги прелестный и обаятельный человек, журналист и писатель Александр Никанорович Зуев. Мы молчали. Было тихо. Но вот хлопнула дверь, вошел неизвестный мне человек. Зуев поднялся ему навстречу со своей неизменной приветливой улыбкой, пожалуй более обычного радушной. Я мельком взглянул на незнакомца, крепко пожимавшего руку Александра Никаноровича. Коренастая, широкая и плотная фигура, крупный нос, толстые, негритянские губы в веселой и лукавой улыбке, сверкающие стекла очков, за которыми лучились умные, быстрые глаза, — вот все, что я успел заметить.
Зуев, как всегда, говорил неторопливо, тихим, мягким, немного глуховатым голосом, гость улыбался, посмеивался, похохатывал. Последовали взаимные вопросы о здоровье.
— Что давно вас не видно? Где проводите лето? — спросил Зуев.
— В Молоденове, — отвечал гость.
— Что там делаете?
— Работаю.
— А живете где?
— У старушки одной. Древняя уже старушенция. С ней у меня забавный случай произошел.
И гость стал рассказывать, улыбаясь, посмеиваясь, хитро и лукаво взглядывая то на Зуева, то на меня:
— Собрался я как-то в Москву. Старуха говорит: «Исак, купи мне на саван».
«На саван?»
«На саван, батюшка. Было у меня тут приготовлено, да невестка на рубахи пустила. Помру, дак и завернуть не во что».
«Да что ты, бабушка! — говорю. — Ты здорова, помирать не торопись. Зачем тебе саван?»
«Человек своего часу не знает, саван надобно загодя припасти».
«Чего ж тебе купить?» — спрашиваю.
«Да ты что, Исак, не знаешь, из чего саван шьют? Белого материалу купи али сурового».
Я пообещал и поехал.
Закончил свои дела, пошел по магазинам, посмотрел. Все что-то не то. Бязь какая-то. В общем, купил несколько метров шелкового полотна. Приехал, отдаю, смотрю, что будет. Старуха древняя, подслеповатая. Долго она разглядывала, щупала, качала головой.
«Сколько же оно стоит? Дорогое, поди?»
Я смеюсь:
«Сколько бы ни стоило, денег с тебя не возьму».
«Как не возьмешь?»
«Так, не возьму. Это ж на такое дело, что брать нельзя».
Она долго жевала губами, опять щупала и мяла ткань, потом спросила:
«Это что ж за материя такая?»
«Полотно», — отвечаю.
«Не видала допрежь такого. Хорошее полотно. В жисть такого не нашивала, хоть после смерти в ём полежу».
И спрятала полотно в сундук.
…Гость посмеивался, но чувствовалось, что смехом он скрывал свою растроганность.
— …Да-а… вот, значит, какая бабуся!
— Может быть, вы что-нибудь новое написали? — спросил Зуев, меняя разговор. — Давайте нам.
— Нет, ничего не написал.
— А все-таки! Может, есть хоть один новый рассказ? Возьмем несколько прежних, прибавим новый и издадим книжку. А? — с надеждой говорил Александр Никанорович.
Гость задумался.
— Есть у меня один рассказ, — нерешительно начал он. — Но, понимаете, в нем нет конца. А у меня, вы знаете, — он развел руками, — это может быть и полгода.
И он опять засмеялся, но на этот раз как-то неловко, будто извиняясь.
— Ну что ж, Исаак Эммануилович, будем ждать, — сказал Зуев. — Только уж вы никуда.
— Конечно, конечно.
Исаак Эммануилович простился. Еще раз блеснули стекла его очков, просияла широкая, добродушно-лукавая улыбка, и он ушел.
— Кто это был? — крайне заинтересованный, спросил я Зуева.
— Бабель, — ответил Александр Никанорович, снова садясь за свой стол.
Должно быть, у меня был очень глупый вид в эту минуту: так поразила меня эта внезапно прозвучавшая фамилия. Я ли не знал «Конармии», «Одесских рассказов»! У читателей моего поколения многие чеканные реплики героев бабелевских рассказов были на слуху, вошли в речевой обиход как афоризмы, как крылатые слова. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики». «Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть».
Я долго не мог опомниться: я видел Бабеля.
Много раз после того я встречал Исаака Эммануиловича -в издательствах, в писательском клубе, слышал его с трибуны Первого съезда советских писателей. Но первая встреча резче всего запечатлелась в моей памяти. Почему? Может быть, потому, что тогда я как-то всей кожей ощутил и его жизнерадостность, и веселость, и чувство юмора, и сердечную теплоту к дряхлой бабке и ко всем людям, и великую требовательность к своему искусству художника, который мог месяцами искать единственно необходимые, неожиданные, немыслимые и неповторимые слова, который знал, что тайна фразы «заключается в повороте, едва ощутимом», что «никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».