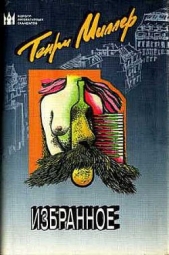Мой друг Генри Миллер

Мой друг Генри Миллер читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чего только не натерпелся Миллер, якшаясь с Максом, однако в конечном счете сломался не он — сломался Макс! Из стыда? Или сознания собственного ничтожества? Не нам судить. Все, что мы знаем, — это то, что он расплакался. Должно быть, в глубине души Макс понимал, что от Миллера он получил гораздо больше, нежели ему обычно перепадало от людей, которых он зачумлял. Надо сказать, Миллера он тоже зачумлял, поскольку он и впрямь был чумой. Генри сам об этом говорит в своем рассказе. Но, противостоя чуме одной лишь силой величия души, Миллер оказался сильнее ее: он посулил ей больше, чем она могла бы унести, будь ей позволено опустошать все подряд.
Признаться, Миллер, с его знаменитым даром карикатуриста, несколько преувеличил как пороки Макса, так и его добродетели. В угоду литературе Макса пришлось выставить последним отребьем, очистившимся от скверны; аналогичным образом мадемуазель Клод в другом рассказе пришлось выставить чуть ли не герцогиней. Однако и чума, и шлюха вполне реальны, Миллер лишь усилил основные черты их характеров. В обоих случаях совершенное им чудо было чудом очищения.
Но тут необходимо сделать маленькое mise au point [81]. Читателю не следует обольщаться, полагая, что на добрые дела Миллера толкало исключительно величие души. У него действительно было доброе сердце, и он действительно был «мировым парнем», по выражению нашего друга Осборна, но помимо этого Генри был еще и большой шутник и никогда не отказывал себе в удовольствии от души повеселиться. Он не собирался улучшать мир — это удел политических деятелей и реформаторов; он собирался улучшать собственное «я». И с каждым новым достижением на ниве самосовершенствования он становился чуть более независимым, чуть более самим собой. Макс и прочее отребье, появляющееся и исчезающее на страницах его книг, были для него неиссякаемым источником удивления. Он наблюдал за ними почти с научной беспристрастностью, изучал их реакции, выслушивал исповеди — и не предпринимал ни малейшей попытки переделать этих людей. Если они все же изменялись — а так всегда и бывало, — то именно потому, что они скорее открывались для нового опыта, нежели ему подвергались.
Миллер Макса на дух не переносит и не сопереживает ему в его страданиях, потому что он по себе прекрасно знает, что значит страдать — страдать так глубоко и радостно, как Максу и не снилось. В действительности он его презирает, смеется над ним и в любой момент готов послать его к черту. Да он этого и не скрывает и уж подавно не льет пьяных слез по поводу всех его тридцати трех несчастий.
Сегодня я вознесу тебя до небес, а завтра — сброшу, как грузило. Черт с ним, угроблю на этого мерзавца еще один день — и амба! Неужели я наконец смогу от него отделаться! Сегодня я еще послушаю тебя, мудака… выужу всю твою подноготную. Выжму из тебя последние соки — и за борт, а там пропадай ты пропадом!
Вот так Генри занимается спасением Макса. Завтра — «пропадай ты пропадом!». Но завтра Макс будет тихо свыкаться с новой жизнью, вливание которой сделал ему Миллер. Завтра будет завтра, но сегодня Максу позволено оросить жилетку своего гуру [82] этими невидимыми слезами исцеления. Перекроенный шиворот-навыворот, Макс уже не обитатель гетто, вызывающий омерзение своими хищническими замашками, — теперь Макс человек. Миллер же отныне — друг; не потенциальный клиент (каково тебе, Миллер?), ни даже друг-клиент, а просто друг — друг tout court [83]. Макса не волнуют больше ни Миллеровы деньги, ни его бутерброды с ветчиной, ни даже его рубашки и шляпы — ему нужен только он сам.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Тихие дни в Клиши» {113}
Квартиру в Клиши мы сняли осенью 1932-го, на третий год пребывания Миллера в Париже. Этот переезд ознаменовал поворотный пункт в его жизни. Впервые со дня прибытия в Париж Генри обзавелся собственным углом — domicile fixe [84]. Французы произносят это словосочетание с изрядной долей гордости. Время скитаний от отеля к отелю — от maison garnie к maison garnie [85]— подошло к концу. До того как мы поселились в Клиши, Миллеру, наверное, пришлось сменить не одну дюжину меблирашек самого низкого пошиба.
Обеспечить себе крышу над головой — задача не из легких, проблема почти столь же важная, как и проблема питания, но разрешить ее гораздо труднее. Боюсь, я слегка схалтурил, освещая эту сторону первого периода парижской жизни Генри. Где бы ты ни жил, три года — срок солидный, если не имеешь ни кола ни двора. Не считая короткого периода, когда он жил на Елисейских Полях у Осборна, и еще более короткого, когда наслаждался сравнительной безопасностью и комфортом жилища Френкеля, Генри только и делал, что менял отели.
Он знал лишь самые занюханные, самые дешевые ночлежки Монпарнаса. Зачастую он проводил там только одну ночь, а иногда и ночи не выдерживал, потому что клопы гнали его на улицу задолго до рассвета. Когда его таким образом выдворяли из какой-нибудь убогой конуры, ему ничего не оставалось, кроме как всю ночь бродить по мрачным, зловещим улицам, не имея в кармане даже на чашечку кофе. (Генри еще в Америке узнал, что такое не иметь крыши над головой.) Обычно ему удавалось найти пристанище засветло. Не думаю, чтобы он когда-либо опускался до ночевок под мостами Сены или прибегал к помощи Армии спасения, предоставлявшей ночлег в «плавучем доме», пришвартованном у моста Карусель. Там давали тарелку овсяной размазни и гамак на ночь — при условии, что ты споешь пару гимнов во славу Господа. Генри не имел ничего против пения, но атмосфера «плавучего дома» была до того удручающей, что он скорее уж предпочел бы провести ночь под мостами в компании clochards [86] и tireurs de pieds de biches [87].
Когда дела шли из рук вон плохо, Генри отдавался на милость случайных знакомых, которых заводил, таскаясь по улицам; это были преимущественно иностранцы, причем все больше богатые.
Последние несколько недель я вел общинный образ жизни, — пишет он в «Тропике Рака». — Мне приходилось делить себя с другими — большей частью с несколькими сумасшедшими русскими, вечно хмельным голландцем и болгаркой по имени Ольга. Из русских это главным образом Евгений и Анатолий.
Они его кормят и выделяют спальное место на полу. Простые и бедные люди всегда рады оказать помощь. Пища, однако, прескверная, пол обычно кишит тараканами, а смрад человеческого горя превосходит всякие границы.
Каждая трапеза начинается с супа. Луковый это суп, томатный, овощной или еще какой, на вкус он всегда одинаков и вечно отдает не то кислятиной, не то плесенью, не то помоями — будто в нем долго варили посудную тряпку. Я вижу, как Евгений каждый раз после обеда прячет суп в комод, и он стоит там и киснет до следующего приема пищи. Туда же в комод убирается масло: через три дня оно приобретает вкус большого пальца на ноге трупа.
Генри ни при каких обстоятельствах не теряет чувства юмора. Даже оказавшись «на обочине жизни» {114} — а ему пришлось покруче, нежели другу Оруэллу {115}, — он все равно продолжает смеяться. И распевать русские песни с русскими, а болгарские — с болгарами. Когда он об этом пишет, выходит весело, в реальности же веселого было мало. А что может быть веселого в том, что ты голоден и нищ! «„Жизнь, — пишет Генри, цитируя Эмерсона {116}, — определяется тем, какие мысли занимают человека в течение дня“. Ежели это так, то моя жизнь не что иное, как одна большая кишка. Я не только целыми днями думаю о еде — я брежу ею по ночам».