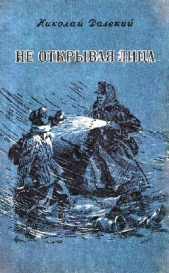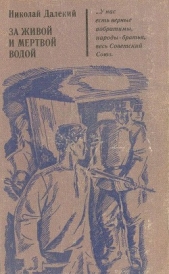За живой и мертвой водой
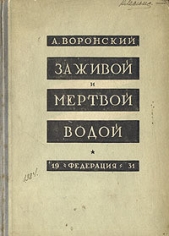
За живой и мертвой водой читать книгу онлайн
Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.
В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы. Воронский — будущий редактор журнала «Красная новь». За бунт его исключили из духовной семинарии — и он стал революционером. Сидел в тюрьме, был в ссылке… «Наша жизнь» — замечает он — «зависит от первоначальных впечатлений, которые мы получаем в детстве… Ими прежде всего определяется, будет ли человек угрюм, общителен, весел, тосклив, сгниёт ли он прозябая или совершит героические поступки. Почему? Потому что только ребёнок ощущает мир живым и конкретным.» Но и в зрелые годы Воронский сохранил яркость восприятия — его книга написана великолепно!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В зале было тихо. Ленин убеждал и приказывал. Он защищался и нападал. Казалось, он бросал в толпу горячие, круглые камни. Почему-то слова его окрашивались жарким красным цветом. Он умел убеждать, как адвокат, но ещё больше он убеждал, подчиняя слушателей своему хотению и тем, что он не сомневался.
Ленину не удалось кончить речи. Присутствовавший на собрании пристав заявил, что он лишает слова оратора и закрывает собрание. Ленин шутливо заметил: «По случаю свободы собраний собрание закрывается». Пристав с городовым стал пробираться к трибуне. Его оттирали. Ленин поспешно покинул трибуну, скрылся, сопровождаемый и охраняемый группой доверенных товарищей. Зал гремел в овациях.
— Ленин, — глубоко вздыхая всей грудью, произнёс Валентин, теснясь к выходу.
— Он нисколько не подлаживается к аудитории, — сказал я.
— Хороший парень, — баском покровительственно прибавил Валентин.
В дни декабрьской забастовки и восстания в Москве нас назначили в группу летучих агитаторов. С утра мы выходили на улицы рабочих предместий, следили, где собирался народ, вмешивались в споры, убеждали «держаться до конца», осведомляли о том, что делается на других заводах, в районах, в Москве. Такие летучки обычно были непродолжительны и опасны: по улицам разъезжали конные полицейские, казаки, драгуны, шныряли вольные и наёмные сыщики, бродили и вынюхивали громилы. Не раз за нами гонялись охранители, и мы убегали от них во дворы домов, в переулки, смешивались с толпой.
Однажды, спасаясь от преследования казаков, мы, не зная, куда деться, завернули за угол и забежали в первую попавшуюся открытую лавку, заваленную железным хламом. Нас встретил сумрачный и неприветливый старик в длиннополой поддёвке.
— Вам чего? — спросил он нас враждебно.
— За нами гонится полиция, — оторопело и откровенно сознались мы.
Старик дернул ухо, густо заросшее волосами, оглядел нас из-под колких бровей, бросил с ненавистью:
— Проходите сюда!
Он прикрыл дверь лавки, провёл нас в полутёмную заднюю комнату.
В это время конный наряд проскакал мимо лавки. Старик постоял, прислушиваясь к замирающему стуку копыт.
— Ну, — сказал он жёстко, — идите вот сюда чёрным ходом. Тоже — забастовщики. Материнское молоко на губах ещё не обсохло, а туда же лезут. Всыпать бы вам по полсотне горячих, да за вихры отодрать.
Мы поблагодарили его.
— Идите, идите, нужно мне ваше спасибо, — непримиримо ответил он, захлопывая за нами дверь.
Военная организация
Московское восстание было подавлено, первый Совет сидел в тюрьме. Валентину предложили поехать в Гельсингфорс работать в нашей военной организации. Он согласился. Я провожал его. На вокзале мы чуть не попались. В чемодане Валентина лежали вместе с бельём протоколы съезда, номера нашей газеты, листки, прокламации, браунинг, кинжал. Чемодан пришлось сдавать в багаж. В багажном отделении к нам подошёл чиновник, предложил раскрыть чемодан. Мы спросили, на каком основании он требует осмотра.
— Обычные таможенные порядки, — кратко ответил чиновник, ожидая у чемодана вместе с весовщиком.
Мы тревожно переглянулись. Нас не предупредили, что багаж на Финляндском вокзале осматривают. Открыть чемодан — значит подвергнуться аресту.
Валентин, покрывшись мгновенно яркими пятнами, спросил:
— А сколько стоит отправить чемодан багажом? Я рассчитывал взять чемодан с собой.
Весовщик-финн приподнял чемодан, ответил на ломаном русском языке.
— Кажется, у меня не хватит денег уплатить за багаж. — Валентин отвернулся в сторону, вынул кошелек, порылся в нём. — Какая досада, не хватает. Может быть, у тебя найдётся? — Он толкнул меня ногой и пристально на меня посмотрел.
— Нет, я при себе имею деньги только на извозчика.
— Тогда, — сказал Валентин, — придётся оставить пока чемодан у тебя. Извиняюсь за беспокойство, — обратился он к чиновнику.
Тот отошёл от нас. Я поспешил попрощаться с Валентином и уехать с чемоданом. Я послал его на следующий день без браунинга, кинжала и нелегальной литературы.
В конце января получил от Валентина письмо, он предлагал мне приехать к нему. Я достал свидетельство от врача, взял десятидневный отпуск по службе.
Гельсингфорс показался мне очень уютным и непохожим на наши российские города. Скалы, дома в стиле модерн, словно высеченные из камня широкие эспланады, катанье с гор на лыжах и санках, опрятные, чистые кафе — ото всего веяло домашним, прочно установившимся культурным северным бытом. После сырого, сумрачного, холодного Петербурга Гельсингфорс казался загородной тихой, радушной виллой.
Я нашёл Валентина на Union Katu.
— Здесь живёт Бернгард фон Герлях? — спросил я мешковатого финна, открывшего мне дверь.
Финн дружелюбно кивнул головой. К моему несказанному удивлению, Валентин и оказался фон Герляхом. «Фон Герлях» был одет в новую чёрную пару, носил тонкую вязаную финку, воротничок, манжеты, шёлковый серый галстук.
Фон Герлях осмотрел меня критически, с сомнением покачал головой:
— Ты компрометируешь меня. Варежки, драное пальто, шапчонка. Имей в виду, здесь я — знатный студент. Придётся сказать, что ты — мой друг, прославленный русский писатель и поэт.
Мы поделились новостями, мыслями, легли в кровати с отличным бельём. Одеяла были приготовлены конвертами.
В восемь часов утра вошла горничная-финка в белом переднике: она слегка тронула нас за плечи, поставила на низенький столик поднос с кофейным прибором, со сливками и с сухарями. Фон Герлях лениво потянулся к маленьким чашечкам.
— Превосходный обычай — пить кофе со сливками в постели. Сразу становишься бодрым, не правда ли?
Я согласился со своим изысканным и высоким другом. Мы выпростали руки из-под одеял, приподнялись и изнеженно тянули душистый кофе.
— Кто мог бы подумать, — заметил кровный, старинной немецкой фамилии молодой юнкер, — кто бы мог подумать, что возможны подобные волшебные превращения?
— Да, — ответил я, — ещё в прошлом году в это время мы валялись, помнишь, в угловой семинарской спальне: рядом с нами спал Дроздов, от его портянок несло за семь вёрст, и мы задыхались в липком и густом поту. Интересно, что сказал бы наш инспектор-«косопузый», если бы увидел нас в этой роскошной обстановке.
— Очень нужно вспоминать об этой гадине, — опорожняя вторую чашку, пренебрежительно ответил юнкер, по-видимому, без особого удовольствия вспоминая о своём тёмном прошлом. Он закурил папиросу, высунул ногу из-под одеяла и стал рассеянно водить жёлтой пяткой по голубым обоям на стене.
Вошла горничная. Валентин продолжал вычерчивать на стене замысловатые фигуры. Когда горничная унесла поднос, я не без ехидства промолвил:
— Словно бы «фону» не пристало в присутствии молодой женщины пятнать обои голой пяткой.
Фон Герлях поспешно убрал ногу под одеяло.
— Ты прав, мой друг. Пора, однако, вставать. Может быть, тебе нужен одеколон?
Я вытаращил глаза.
— Освежает и гигиенично, — поучительно разъяснил «фон». — Я мешаю наполовину с водой. Три раза в неделю.
— Ты так совсем обуржуазишься, — предостерёг я Валентина.
— Могу, — ответил он, рассмеявшись.
Днём мы обедали в столовой, где не было порций, стояли графин с водкой, холодные закуски. Горячее, жаркое подавали в огромных мисках и блюдах. Каждый брал, сколько ему хотелось. Это тоже удивило меня.
После обеда гуляли и натолкнулись на необычайное шествие. Навстречу нам с вокзальной стороны, запружая улицу, валила густая толпа, по бокам охраняемая живой цепью. Впереди со смехом и криками, вцепившись в оглобли, тащили сани человек двадцать, лошадей не было. На санях восседали два человека, на коленях они держали женщину. Они снимали шапки, кланялись, что-то выкрикивали.
— Горький! Горький! — разобрали мы в толпе.
В санках сидели Горький, его жена Андреева, Скиталец. Именитого писателя встречали на вокзале финские рабочие. Они впряглись в сани, везли гостя в дом пожарного общества, где помещался рабочий клуб. Валентин узнал, что вечером будет чествование Горького в клубе, поспешил в редакцию газеты «Тиомиес» запастись билетами.