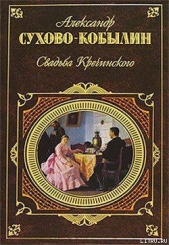Сухово-Кобылин

Сухово-Кобылин читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XIX
— начале XX века. Особенно это относится к 70—80-м годам XX столетия, когда было доведено до совершенства искусство, получившее несколько не литературное, но очень точное и для Сухово-Ко-былина абсолютно органичное определение — «кукиш в кармане». Наследие Александра Васильевича оказалось на удивление удобным для подобного рода экзерсисов! Необходимо пояснить. В рассуждении об «экзерсисах» нет ничего презрительного или уничижительного — были серьезные, большие удачи на этом пути; были и спектакли проходные, не оставившие по себе памяти; были и у известных режиссеров те невнятности, неточности формулировки, которые в конечном счете их уводили в противоположную от замысла сторону. В 1971 году Леонид Хейфец, режиссер глубокий и серьезный, поставил в Малом театре «Свадьбу Кречинского». «Не следует из пьесы делать трагедию, но и чистая комедия не получается, — писал режиссер, делясь своим замыслом. — Значит, она на пересечении жанров должна играться. Тогда есть надежда, что дойдет до зала мысль о том, что в борьбе за существование не все средства хороши и недопустимо, когда растаптываются первые чувства девушки, и когда благополучие одних строится на горе других, и когда за внешней пристойностью и добродетелью скрывается жесткая, звериная хватка». В этих словах режиссера есть противоречие — и весьма знаменательное: пьеса Сухово-Кобылина в подобной интерпретации представляется рассчитанной на уровень массового сознания, которому необходимо объяснить, как это скверно — топтать первое чувство девушки и строить свое благополучие на неблагополучии других, как плохо играть в карты и воровать. Да, для начала 70-х годов XX века горькая мысль автора об оскудении и «оподлении» дворянства, о губительности карточных страстей была уже совсем не актуальна, но тема расплюевщины как жажды непременно примазаться к одному из сильных мира сего, получить свой хлеб насущный все равно за какие низости — ах, как же она была важна, современна! Леонид Хейфец прочитал «Свадьбу Кречинского» как трагедию человека сильного, талантливого, но свободного от морали: все поглотила страсть игрока, а «надо понять, что такое игрок, — писал режиссер. — Исступленное желание победить, когда шансов почти нет, когда шанс — последний. Пьесу можно было бы назвать „Последний шанс“. О, это особое самочувствие, когда что-либо — последнее». Что-то не случилось, что-то очень существенное «сорвалось» в отношениях Хейфеца с Сухово-Кобылиным. Замысел оказался намного интереснее, живее, современнее результата. Хейфец нашел нешаблонное толкование образа Кречинского, подчинив действие возможно более полному раскрытию этого образа, но очень многое ускользнуло, осталось в тени… Жаль! Работая в свое время над «Свадьбой Кречинского», В. Э. Мейерхольд стремился избавиться «от рутины, от бремени устойчивых сценических традиций трактовки популярнейших ролей»… «Реализму новых очертаний», по его мысли, «должна предшествовать очистка классического текста от наслоений, которыми замызгало его прошлое». Пожалуй, к этому можно было бы добавить: «и настоящее…» Постановка не имела такого сильного резонанса, как предыдущие работы Мейерхольда, но живший в ней дух эксперимента, отчетливо проявлявшийся в каждом прочтении трилогии, не мог не вдохновлять последователей режиссера, обращавшихся к драматургии Сухово-Кобылина на протяжении XX века. Так, замечательный артист Эраст Гарин, исполнивший роль Ванечки в мейерхольдовском спектакле «Смерть Тарелкина», поставленном в 1922 году в мастерской ГИТИСа, в 1964 году сам поставил «Веселые расплюевские дни» в Московском Театре-студии киноактера и сыграл Тарелкина, а спустя три года воплотил свой замысел уже на экране. «Смерть Тарелкина» в постановке Мейерхольда вспомнилась не случайно. Этому режиссеру всегда было свойственно «размывание» сложившегося стереотипа, особенно в части жанрового определения. Но подобный прием порой не оправдывал себя, не оправдал и в «Смерти Тарелкина». По словам одного из учеников и горячих приверженцев Мейерхольда, спектакль был поставлен «в традициях балагана, шутовства, Петрушки. Мейерхольд от этого не отказывался, потому что традиции балагана единственно здоровые театральные традиции, нужные нашему времени». Герой, словно в цирке, проходил через ширму, пытался усидеть на прыгающем стуле, влезал в ящик. Но материал отчаянно сопротивлялся, не умещаясь в прокрустово ложе режиссерского замысла трюковой комедии. Кто знает, может быть, эта неудача Мастера и предопределила последующую судьбу пьесы… Вспомним, что И. Москвин просил руководство МХАТа отказаться от постановки «Смерти Тарелкина», а известный театровед Б. Алперс писал, что по сути пьеса эта нетеатральна, ибо безысходность финала разрушает необходимый этический закон театра. Это авторитетное мнение было разрушено выдающимся режиссером Г. А. Товстоноговым, поставившим «Смерть Тарелкина» в 1983 году. Товстоногов начал именно с поиска тех средств сценического воссоздания «комедии-шутки», которые могли бы вызвать смех и содрогание одновременно. Режиссер изучил и замысел Мейерхольда, и замысел К. С. Станиславского, которого, с одной стороны, увлекала идея о драматизации оперы, а с другой — очень интересовала природа гротеска. Размышления об уроках Станиславского и экспериментах Мейерхольда привели Товстоногова к новому прочтению «Смерти Тарелкина». Не придумывая сложных конструкций, не ломая образный каркас, режиссер выдвинул идею принципиально нового жанра: оперы-фарса, в котором соединились бы требования, предъявляемые Станиславским к опере и — одновременно — к гротеску, и творчески осмысленными и продолженными предстали бы поиски Мейерхольда. К. С. Станиславский понимал гротеск как высшую и чистейшую характерность, очищенную от всего лишнего. «Только типическое. Гротеск в комическом — дает карикатуру. Гротеск в драматическом — дает трагическую маску». Великий режиссер выводил суть гротеска из импровизационного метода существования актера в предлагаемых обстоятельствах: осваивая жизнь своего персонажа, втягиваясь постепенно в заданную сюжетную ситуацию, актер начинал импровизировать, чувствуя себя одинаково раскрепощенно в комическом и трагическом при переходе из одного состояния в другое. Собственно, об этом и писал Сухово-Кобылин в послесловии к «Смерти Тарелкина», апеллируя к примеру французского актера Левассора, непревзойденного мастера трансформации. В спектакле Г. А. Товстоногова гротеск пронизал абсолютно все: гротескова сценография Э. Кочергина — перед зрителями развернута гигантская подкова, символ счастья, под которым о счастье и мечтать нельзя; гротескова музыка А. Колкера, нашедшего точный музыкальный эквивалент каждому исполнителю — ни одна из тем не теряется в стремительных, причудливых витках действия, они не сливаются, а подчеркивают, оттеняют одна другую. Текст Сухово-Кобылина, переведенный в стихотворные монологи, хоры, речитативы, с одной стороны, лишается архаичности, с другой — превращается в афористически точные мысли. «Генеральские письма мне Судьба подарила; Вот вам Случай и Сила…» — звучит ария Тарелкина, предшествующая его перевоплощению в Копылова. «Вся Россия под мцырями — не вмешаемся: сожрут!..» — поощряет Расплюева к действию генерал Варравин. Хор чиновников (они же в отдельных эпизодах — фантомы, напоминающие и Тарелкину — Копылову, и зрителям, что «идет игра!») привносит в общее звучание «оценочную» интонацию: неизбежность возмездия за содеянное, неизбежность высшего суда. А финальный смех, соединяющий артистов, словно сбросивших свои маски, и зрителей, возвращает не только к горькой гоголевской реплике: «Над кем смеетесь?..» — но и к словам Сухово-Кобылина о «высшей потенции», «высшей форме нравственности». Спектакли, как известно, не живут долго. Вот и этого спектакля не стало, сегодня его приходится переписывать на кассеты с пластинок… …Когда Мейерхольд ставил свою вторую редакцию «Смерти Тарелкина», полицейский режим нового времени уже начинал входить в силу. Лжесвидетельства, абсурд возводились в норму. А на исходе 1980-х годов к «комедии-шутке» обратилась режиссер Театра-студии на Спартаковской Светлана Врагова. Спектакль назывался «Веселые расплюевские дни», и название это было вполне оправдано — пришло время праздника на расплюевской улице, все персонажи оказались вампирами, но вампирами особого рода. В отличие от порождений мира нереального, эти фантомы отбрасывали тени — зловещие, изломанные, загораживающие друг друга, друг на друга наползающие. С. Врагова решилась на эксперимент, и он себя, как представляется, оправдал. Перед зрителем развернулся подлинный бал вампиров, веселье, порождаемое и усугубляемое самим видом крови. Причем вампиры не обескровливают жертву до конца. Человек, из которого высосали немного крови, сразу же превращается в союзника вампиров, так происходит с дворником Пахомовым, купцом Попугайчиковым… Вопрос — имел ли театр право на подобную интерпретацию? — представляется некорректным, потому что все происходящее на сцене описано Сухово-Кобылиным, заложено в «образный шифр» пьесы, театр дает лишь собственную расшифровку, созвучную своему времени. Здесь совсем нет людей — все персонажи находятся как бы «по ту сторону» мыслей, чувств, надежд. Очень интересными в спектакле «Веселые расплюевские дни» представляются его связи с другими пьесами трилогии: тренированные, боксерские кулаки Расплюева — это особенность Расплюева из «Свадьбы Кречинского»; попугайная пестрота купца заставляет вспомнить наряд Щебнева; глаза главного вампира — Варравина словно налиты кровью Муромского… Так прочиталась «комедия-шутка» под занавес XX века, почти через сто лет после первого ее появления на подмостках. Но, пожалуй, наиболее современной оказалась во второй половине 1980-х годов вторая пьеса трилогии, «возлюбленный сын» Александра Васильевича Сухово-Кобылина, «Дело». Рассказ о том, как замучили, до физической гибели довели чиновники человека, вступившегося за честь единственной, горячо любимой дочери. Как рвался этот человек к правде до тех пор, пока правда «не хлынула у него из горла… вместе с кровью». То было время навязанной немоты, и режиссеры видели в «Деле» счастливую возможность высказаться, свести счеты с современностью, с ее проблемами, с ее удушающей атмосферой. Каждый из них наследовал традицию Н. П. Акимова и по-своему развивал ее, «привязывая» к настоящему моменту. В спектакле «Дело», поставленном в 1988 году в Театре им. Евг. Вахтангова П. Фоменко, в уста Князя вложены слова из дневника цензора А. В. Никитенко о хаосе, охватившем общество, когда стали известны размеры взяток и истинное положение дел в эпоху царствования почившего монарха. Это звучало на редкость современно, вызывая многочисленные аллюзии, но результат получился двусмысленным: в «Деле» нет такого положительного персонажа, который мог бы комментировать положение в стране «со стороны», а в устах Князя слова Никитенко парадоксальным образом потеряли свое первоначальное значение. В спектакле В. Портнова «Дело» (Театр им. К. С. Станиславского, 1986 год) мостик переброшен в «Свадьбу Кречинского»: зрителя, не знающего первой пьесы трилогии, конспективно знакомили с событиями, предшествовавшими «Делу». Но и здесь «злободневность» не срабатывала, провисала в воздухе, а пьеса казалась скучной и какой-то неживой… Оба эти спектакля (каждый в своей мере) возвращали к мысли о том, что бережное отношение к классике отнюдь не исчерпывается точным соблюдением авторских ремарок, владением стилем, знанием эпохи. Произведение оживает на сцене лишь тогда, когда есть свежий, сегодняшний взгляд на характеры и события «давно минувших дней», а если нет его — смещается чрезвычайно тонкая и сложно сотканная нить: тот нерв, который связует классику и современность. Г. А. Товстоногов писал о классике, что «смысл ее воздействия на зрителей не укладывается в куцую мораль и элементарное поучение. И совершенно не обязательно, чтобы зритель, выходя из театра после окончания спектакля, формулировал словами, чему научил его сегодня Горький, какой он сделал для себя вывод, посмотрев драму Островского…». Мы читаем сегодня классику совсем другими глазами: нам не дано, подобно зрителям-современникам, читателям-современникам, чутко реагировать на любую аллюзию, касающуюся реформ, указов, реальных прототипов — всего того, что у наших предшественников было на слуху и на глазах, что составляло их жизнь. Но с удивительным упорством (почти бессознательным) мы подставляем под хрестоматийные ситуации свои, близкие, знакомые. Так устроен человек. Публицистическая направленность, нюансы подтекстов драматургии Сухово-Кобылина скрыты от нас временем. Впрочем, то же можно сказать и о произведениях Островского, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Тургенева. Но остался некий высший смысл — он таится в непрекращающейся повторяемости всего. Единственным режиссером, рискнувшим в это десятилетие показать на сцене все три пьесы Сухово-Кобылина как одно целое, был Валерий Белякович. Его спектакль «Трилогия», поставленный в Театре на Юго-Западе в 1988 году, отличался динамизмом, острой злободневностью, дерзостью. В «Свадьбе Кречинского» персонажи, по мере развития общего (что очень важно!) сюжета, постепенно превращались в представителей изнаночного, фантомного мира. Персонажи «Дела» в большинстве своем представали уже в масках, а в «Смерти Тарелкина» перед зрителями разворачивался поистине трагический балаган, где человек переставал быть человеком. Пожалуй, только в этом спектакле из всех, виденных мною на протяжении многих десятилетий, мысль Сухово-Кобылина о том, что «ein Mal ist kein Mal, drei Mal ist ein Mal»[4], прозвучала столь жестко и убедительно. 25 января 1896 года Александр Васильевич писал племяннице: «Сколько событий, катастроф, забот, огорчений, планов, превратившихся в дым, и действительно существовавшего, но исчезнувшего навеки. Я погружен в свои бумаги по самое горло и переношусь в это прошлое, которое часто представляется настоящим». Не будем перетолковывать это признание стареющего писателя и философа «в пользу» театральной ситуации. Но так уж случилось, что прошлое Александра Васильевича, не слишком разительно меняясь с течением жизни, стало во многом нашим настоящим. XX век не только не снял поставленные им вопросы, но и обострил их: уже в первой четверти столетия появилась плеяда наследников Сухово-Ко-былина, воспринявших его, если воспользоваться выражением Л. Гроссмана, «страшные арлекинады» как наиболее естественный и плодотворный путь к освещению и осмыслению современности. Но какими же причудливыми, подчас драматическими путями вела их «Великий Слепец Судьба» к пониманию и признанию! Наследуя уроки Сухово-Кобылина, драматурги XX столетия словно вынуждены были разделить и его участь — ценой мучительных переломов и душевных смут расплачиваться за свои арлекинады. Такова была судьба, например, Николая Эрдмана, о котором вновь заговорили в 1990-е годы, когда были опубликованы и поставлены многими театрами его пьесы «Мандат» и «Самоубийца». Благодаря этому только тогда и открылся истинный масштаб дарования автора киносценариев «Веселые ребята», «Волга-Волга» (написанных в соавторстве с кинорежиссером Г. Александровым), «Здравствуй, Москва!», «Смелые люди», «Застава в горах». Сценарии эти принесли Эрдману материальное благополучие, даже Сталинскую премию, но только не чувство удовлетворения. Как и Сухово-Кобылин, Николай Эрдман был автором одной поставленной пьесы, но, в отличие от Александра Васильевича, он так никогда и не увидел ее на сцене, хотя премьера «Самоубийцы» состоялась при его жизни. Это было 28 марта 1969 года в Швеции, в Гётеборге. Вечер премьеры Эрдман провел у себя дома в Москве, в компании нескольких близких друзей, среди которых был Душко Додер. «Мы получили первые отклики с помощью московского бюро шведского телеграфного агентства, — вспоминал Додер впоследствии. — Мой норвежский коллега Пер Эгил-Хегге их переводил. Когда он прочел один заголовок из шведской газеты, в котором говорилось, что Эрдман может оказаться самым великим драматургом двадцатого века, последний оказался на высоте положения и произнес: „После этого больше ничего читать не надо. — И совершенно без всякого выражения на лице добавил: — Давайте выпьем“. Позже, когда все рецензии были переведены и напряжение спало, Эрдман немного пофилософствовал: „Вот я был совершенно забыт и моя жизнь, как драматурга, давно кончилась. — И, посмотрев на лежащую на столе стопку рецензий, заметил: — Это, наверное, не принесет в мою личную жизнь никаких перемен, но, думаю, моя писательская судьба уже изменилась“». Как многое их сближает, Сухово-Кобылина и его полноправного наследника, Николая Эрдмана! Даже блистательное, стремительное начало схоже. Первая пьеса, первый опыт пера вызвали подлинный восторг публики, лучшие актеры своего времени играли премьерные спектакли «Свадьбу Кречинского» и «Мандат», продолжение ожидалось с восторгом и нетерпением, но когда вторые пьесы — «Дело» и «Самоубийца» — были написаны, пришлось преодолевать множество преград, добиваясь постановки. Здесь сходство заканчивается. В 1925 году Вс. Мейерхольд поставил «Мандат». В интервью «Вечерней Москве» режиссер отмечал органическую близость первой пьесы Эрдмана классическим образцам. Это «современная бытовая комедия, написанная в подлинных традициях Гоголя и Сухово-Кобылина, — говорил Мейерхольд. — Наибольшую художественную ценность комедии составляет ее текст. Характеристика действующих лиц крепко спаяна со стилем языка». Наверное, именно поэтому критика была почти единодушна в высоких оценках спектакля. Даже придирчивому К. С. Станиславскому он понравился… Легенда это или быль — неизвестно, но американский журналист Уильям Резвик, работавший в 1920-х годах корреспондентом в Москве, рассказывает в своей книге «Я видел во сне революцию», опубликованной в 1952 году, что на премьере «Мандата» в зале постепенно наэлектризовывалась атмосфера, а разрядилась она выкриками публики: «Долой Сталина!», «Долой большевиков!» Арест Николая Эрдмана, последовавший через восемь лет, У. Резвик объясняет именно этими событиями. Кто знает? Разве что только Великий Слепец Судьба… «Самоубийцу» тоже ставил Мейерхольд на сцене своего ГосТИМа. Однако работа над пьесой прекратилась, не была она доведена до выпуска и во МХАТе. Не помогло даже вмешательство Станиславского, обратившегося непосредственно к Сталину. Не помогло и то, что Сталин «благословил» мхатовскую постановку. Вот что об этом рассказывал П. А. Марков: «Станиславский написал письмо Сталину и как-то показывал нам в театре ответ, написанный от руки на странице из блокнота. Точного текста я не помню, но смысл был приблизительно таков: „Уважаемый Константин Сергеевич! Я не принадлежу к числу поклонников пьесы „Самоубийца“, но надеюсь, что Ваше мастерство и сила придадут ей то значение, которого я в ней не нахожу“. Константин Сергеевич был очень воодушевлен этой перепиской. Репетировали мы „Самоубийцу“ долго… но Мейерхольд много раньше Художественного театра довел „Самоубийцу“ до генеральной, она вызвала резко отрицательное отношение к пьесе, и после этого почва из-под ног у нас была выбита». Дальше события развивались стремительно. На ночь с 15 на 16 августа 1932 года был назначен просмотр, на котором, как ожидалось, должен присутствовать Сталин. Накануне за кулисами театра появилось объявление, текст которого стал доступен только недавно: «Вследствие того, что состав зрительного зала на сегодняшнем показе „Самоубийцы“ укомплектован не Дирекцией, и лица, руководящие пуском зрителей, просили Дирекцию ГосТИМа ограничить присутствие гостимовцев и гэктетимовцев (учеников студии и вспомогательный состав труппы. — Н. С.) лишь занятыми в спектакле (актеры, осветители, бутафоры, рабочие сцены и пр.), Дирекция убедительно просит тех из гостимовцев и гэктетимовцев, которые в спектакле не заняты, не являться на сегодняшний показ». Когда я спросила у Валентина Николаевича Плучека, служившего в молодости артистом мейерхольдовского театра, повлияла ли эта работа Мастера на его постановку «Самоубийцы» 1982 года (спектакль сразу же был запрещен), Плучек ответил, к моему изумлению, что спектакля Мейерхольда не видел, а разговоров о готовящейся в театре премьере было очень мало. Над этим спектаклем словно с самого начала витала тень беды. Или — тень судьбы Сухово-Кобылина. Ведь это из недр его гротеска, его трагического балагана родился «Самоубийца», пьеса, развернувшая перед зрителем картины «звериной жизни домашних животных» — новой исторической общности, советского народа. Стихия «Самоубийцы» — оборотничество характеров, слов, поступков, за каждым из которых стоит образ бессмертного Кандида Тарелкина. В «Мандате» была еще только проба; сущности и мнимости менялись местами осторожно и как будто случайно. Выкрикнув в запале соседу, что он — член партии, поэтому с ним надо бы вести себя поосторожнее, Павел Гулячкин постепенно втягивается в водоворот собственной невольной лжи. Его неуемная фантазия рисует все новые и новые картины, мир реальный почти полностью вытесняется миром воображенным. Расплюевщина… Случайно сошедшееся на Насте Пупкиной платье императрицы делает эту деваху в глазах других воскресшей царицей, невольно становящейся центром антибольшевистского заговора. Тарелкин-Копылов… В «Самоубийце» же все уже логически выстроено, обусловлено, оборотничество становится сознательным, ибо только оно и в состоянии изменить жизнь. Жизнь, воплощенную в коммунальном, прилюдном быте и откровенно требуемых взятках. Не «под сению», не «под тению» — с детской, обезоруживающей откровенностью… Подобно Сухово-Кобылину, Николай Эрдман сумел соотнести реальное с фантастическим, возможное с невозможным, придав вполне бытовым явлениям фарсовые оттенки, которые с невероятной силой разрастаются, множатся, переплетаются друг с другом, взаимодействуют и взаимоотталкиваются. Так сжималось, сокращалось расстояние между явным и мнимым, действительным и кажущимся — возникало некое единство, в котором все связано неразрывно. Фантомный мир, воцарившийся повсюду. Поле истинной сатиры. Если Эрдман стал достойным преемником творческого наследия Сухово-Кобылина, то сталинская цензура превзошла своего предшественника — царскую цензуру, запретившую в свое время «Дело» для постановки в народных театрах по причине того, что пьеса «заключает в себе много возмущающей правды и поэтому именно, в случае постановки ее на сцену, она произвела бы глубокое и потрясающее впечатление на публику…» Спектакль «Самоубийца» был запрещен, а спустя год, в ночь с 11 на 12 октября 1933 года Николая Робертовича Эрдмана арестовали. Это было в Гагре во время съемок фильма «Веселые ребята». Эрдман был выслан в Енисейск, затем в Томск — куда почти столетие назад по заводским делам приезжал Александр Васильевич Сухово-Кобылин; откуда он писал своим младшим сестрам о российских провинциальных нравах, о власти денег над людьми… Вернувшись из ссылки, Эрдман продолжил писать сценарии для фильмов. По воспоминаниям его жены Н. Чидсон, с которой Эрдман расстался в 1953 году, «Николай Робертович, так много в своей жизни работая для кино, относился всегда к этому виду искусства без интереса, предпочитая ему театр. Николай Робертович знал себе цену. Он знал отзывы о себе корифеев театра и литературы. Он видел, как принимала публика „Мандат“. Ему не нужно было самоутверждаться и беспокоиться о званиях и премиях. Он был вынужден молчать и участвовать в создании забавных безделиц, которые впоследствии, к старости, принесли даже материальное благополучие, мало им, кстати, ценимое». На протяжении почти всей жизни этот замечательный драматург занимался тем, что «подсмешнял», как он выражался, сценарии фильмов, воспевавших советскую действительность. Но и на склоне лет не оставила своих «шуток» судьба. В архиве Театра на Таганке сохранились две интермедии к спектаклю «Пугачев», написанные Эрдманом в 1967 году. 3 сентября 1967 года они были отправлены в Управление культуры для пересылки в Главлит — так полагалось в то недавнее время. Далее цитирую по публикации в журнале «Театр». «Продержав их неделю, Управление культуры заявило, что одни интермедии в Главлит не посылают, что нужно напечатать всю поэму с интермедиями. 16 сентября были посланы три экземпляра требуемого текста с приложением, списки документов, книг, которые послужили основанием для этих интермедий. 14 октября Управление заявило, что в Главлит интермедии не пошлют по причине их художественной неполноценности…» Как не вспомнить здесь цензоров, испещривших красными крестами страницы «Дела» и «Смерти Тарелкина»! Спектакль «Пугачев» был выпущен в Театре на Таганке без интермедий. Да это и естественно: слишком прозрачно звучали в конце 1960-х годов слова великой императрицы: «…пусть мы в Европе и чаще других горим, зато мы в Европе быстрее других строимся». Слишком нежелательные ассоциации мог вызвать эпизод выезда государыни из Петербурга в Киев, когда по пути следования Ее Императорского Величества полагалось загородить баб — девками, девок — детьми, а детей — букетами, дабы не смущать сиятельные очи видом нищеты и убожества. Жизнь Николая Эрдмана кончалась. Начиналась «жизнь после жизни»… На фотографии 1928 года запечатлены В. Э. Мейерхольд, Н. Р. Эрдман и В. В. Маяковский. Молодые, кажется, полные творческих сил, планов, надежд. Но их лица не радостны, не веселы. Какая-то непарадная фотография, нетипичная для того времени, для поколения, к которому все они принадлежали если не по возрасту, то по духу. Фотография была сделана в декабре 1928-го. Незадолго перед тем Мейерхольд вернулся в Россию. Подозревали, что он хочет остаться на Западе, подобно Михаилу Чехову и руководителю Государственного еврейского театра Александру Грановскому. Поднялась газетная шумиха, откровенная травля была уже совсем близко. 25 декабря Маяковский прочел Мейерхольду и его труппе свою пьесу «Клоп». Эрдман работал над «Самоубийцей». 13 февраля 1929 года у Мейерхольда состоялась премьера феерической комедии «Клоп». Эта пьеса появилась во времена, когда сам принцип сатирического обобщения, а тем паче сатирической гиперболы яростно отвергался. «Сатира была не ко времени, — писал К. Л. Рудницкий в монографии „Режиссер Мейерхольд“. — На короткий, но очень важный срок господствующей стала эстетическая платформа РАППа, которая „диалектически“ сочетала видимость правдоподобий с обстоятельной и сосредоточенной критикой отдельных, частных носителей порока. Знаменитая рапповская дубинка воинственно наводила в литературе порядок и умиротворение. Под неутихающую барабанную дробь проработки насаждался тихий, вдумчивый псевдопсихологизм, с помощью которого „враг“ изображался как отдельный, психологически-ущербный, подпавший под влияние буржуазной идеологии, а потому неуместный и подлежащий искоренению субъект». Можно ли было в подобных «предлагаемых обстоятельствах» признать эрдмановского Гулячкина, а тем более Присыпкина из «Клопа» реальной опасностью, устремленной в своих притязаниях в будущее? Можно ли было согласиться с тем, что «победивший класс», «бывшие братишки», как трактовали Присыпкина в своем спектакле Мейерхольд и исполнитель роли И. Ильинский, могут быть и нередко бывают именно такими — грязными, темными, хваткими и страшными, истинными детьми и внуками Расплюева? Рецензенты спектакля сразу же обвинили Маяковского в антисоветизме, в клевете на будущее, в том, что представленный им социализм — «социализм вегетарианцев» и «сухарей», а сама фантазия, утопия, изображенная во второй части «Клопа», является типичным сочинением «буржуазного» автора, одного из тех, кто строчит «злостные памфлеты на социалистический строй». Но вот что любопытно. Маяковский был объявлен устами товарища Сталина лучшим и талантливейшим из советских поэтов. Мейерхольд был «уличен» в чуждости и непонятности своих пристрастий. Рецензентам, похожим на изображенного Маяковским Моментальникова, надо было как-то обозначиться в возникших «ножницах». Это оказалось не так уж и сложно: Мейерхольд был обвинен в том, что он извратил картину будущего, нарисованную Маяковским, отравив свежий воздух грядущего социализма «антисоветским душком», за который кто-то когда-то, может быть, не совсем справедливо корил поэта. Тем временем в «Клопе» обнаружились совершенно новые средства художественной выразительности — масштабные социальные типы, органически продолжающие те, что увидел Сухово-Кобылин в современной ему действительности. Если Расплюев в последней части трилогии успокаивался на мысли о том, что «всю Россию» потребует, то Присыпкину этого явно недостаточно. Олег Баян, преисполненный фальшивого сочувствия к Присыпкину, говорит: «Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране — вам развернуться негде… Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется…» И советует покорителю Европы: «Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу, нельзя навыпуск носить крахмальную рубаху». На первом же обсуждении «Клопа», 30 декабря 1928 года, Маяковский заявил: «Конечно, я не показываю социалистическое общество». Но что поделать с тем настойчивым мотивом, который повторялся и повторялся в утопиях 1920-х годов? Мотивом механического, стерильно-неживого, начисто забывшего опыт веков, отвергшего культуру человеческих чувств и страданий, а значит — и культуру вообще «светлого будущего», к которому устремлены все помыслы настоящего. Этот мотив определяет атмосферу не только «Клопа» и «Бани», но и романа Е. Замятина «Мы», и пьесы С. Третьякова «Хочу ребенка», и пьесы Ю. Олеши «Заговор чувств», и его романа «Зависть», и «Страха» А. Афиногенова, и «Блаженства» М. Булгакова… Эти отечественные антиутопии 20—30-х годов XX века происходили от саженца, выращенного Сухово-Кобылиным, первым провозгласившим в своем мрачном фарсе «Смерть Тарелкина», к какому берегу мы неизбежно причалим, если восторжествуют Расплюевы и Тарелкины. Александр Васильевич видел такое будущее страшным. Его преемники увидели бездуховным, механистичным, стерильно-обезличенным. На протяжении многих десятилетий воспринимая Маяковского исключительно как «трибуна-бунтаря», а его творчество как ангажированное, мы как-то забыли о том, что он был одним из первых, кто вынужден был «наступить на горло собственной песне». Как забыли и о том, что именно он и Николай Эрдман были первыми, кто вывел в качестве объекта осмеяния гегемона, пролетария, бывшего маленького человека, которому «его власть» обязана всем. Вслед за Сухово-Кобылиным именно они вывернули наизнанку традицию ушедшего столетия. В «Бане» Маяковский решает вопрос с будущим еще сложнее, чем в «Клопе». Он пытается заглянуть уже не за 50-летнюю, а за 100-летнюю завесу, именно оттуда, из 2030 года, прибывает Фосфорическая женщина и обращается к тем, кто готовы следовать за ней: «По первому сигналу мы мчим вперед, прервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, — радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу». Как звучали эти слова в мейерхольдовской постановке 1930 года, когда по стране прокатилась первая волна репрессий? Как воспринимали их те — радостно трудившиеся, с легкостью жертвовавшие, гордившиеся человечностью, — кто к моменту радиопостановки 1951 года, открывшей «Бане» новый путь на сцену, получили новый срок? Мейерхольд очень высоко оценивал «Баню», сравнивая ее с комедиями Мольера и Гоголя. Только одного имени Мастер не назвал, главного, как представляется, имени — Сухово-Кобылина. Между тем в каком-то смысле Маяковский пошел по пути Сухово-Кобылина даже несколько дальше, чем Эрдман. В 1930 году Мейерхольд поставил «Баню», рапповские критики с яростью обрушились на спектакль, обвиняя поэта и театр во всех смертных грехах. Маяковский недолго радовался успеху спектакля — пресса все сильнее и откровеннее травила его. А Мейерхольд тем временем ждал новой пьесы Эрдмана, но театр его был уже в «кольце». О том, как поистине мистически соединились эти три судьбы, рассказывает в своих мемуарах П. А. Марков. «…Труппа МХАТ гастролировала в Ленинграде. Приблизительно через месяц после премьеры „Бани“ мы собрались в номере гостиницы слушать новую комедию Н. Эрдмана. „Знаешь, в этом номере последний раз останавливался Маяковский“, — сказал Николай Робертович. Потом прочел название своей комедии: „Самоубийца“. На другой день, уже в Москве, на вокзале мы услышали огорошивающее известие: „Только что покончил с собой Маяковский“». Кто-то уже в наше время грустно, но точно заметил: самоубийство было самым верным пророчеством поэта. Через три года в Гагре арестуют Николая Эрдмана. Через десять лет убьют Всеволода Эмильевича Мейерхольда… Для каждого из них началась «жизнь после жизни». «В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес. Закрылась „Зойкина квартира“, кончились „Дни Турбиных“, исчез „Багровый остров“, — писал критик Р. Пикель в сентябре 1929 года в статье „Перед поднятием занавеса (перспективы теасезона)“, опубликованной в газете „Известия“. — Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Речь идет только об его прошлых драматургических произведениях. Такой Булгаков не нужен советскому театру. Факт исключения из репертуара булгаковских пьес имеет известное политическое значение. Широкая советская общественность неоднократно подавала свой голос за снятие их. Театры упорствовали. Борьба вокруг булгаковских пьес была по существу борьбой реакционных и прогрессивных группировок внутри театра и вокруг него. Хотя и с опозданием, прогрессивные элементы победили. Справедливость требует отметить, что сами театры не включили этих пьес в текущий репертуар». Да, «прогрессивные элементы», нанесшие сильный удар по ГосТИМу, не пощадили и другие театры — те, в которых шли пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова: Московский Художественный, Камерный, Театр им. Евг. Вахтангова. Они первыми поставили эти спектакли, но вынуждены были по «требованию общественности», расплюевых, победоносиковых, курьеров егорушек, снять с афиш «Дни Турбиных», «Зойкину квартиру», «Багровый остров». Для Булгакова настали черные дни. «Не знаю, нужен ли я советскому театру, — писал он Сталину в 1931 году, — но мне советский театр нужен, как воздух». Как известно, Сталин смотрел «Дни Турбиных» 15 раз, видимо, поэтому не мог оставить без внимания письмо драматурга. Вождь позвонил Булгакову — этот разговор записан в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой и после публикации стал широко известным. Если абстрагироваться от драматической конкретики и имен, диалог этот напомнит разговор Князя с Муромским из пьесы «Дело» — не только интонацией, не только откровенностью игры кошки с мышкой, но и безысходностью («Кто страдает, тот и стонет, Ваше Сиятельство…» — произносит Муромский в финале). Вот уж поистине преемники Сухово-Кобылина вслед за ним становились персонажами трагифарсов, разыгрываемых Великим Слепцом Судьбой! Эрдман, Маяковский, Булгаков, Зощенко (мы берем лишь очень ограниченный круг), избрав тяжелый, неблагодарный труд «осветителей спектакля жизни» (выражение М. Зощенко), избрали тем самым и судьбу того, кто первым пошел по этому пути поневоле. Предшественники Сухово-Кобылина смеялись другим смехом — не судорожным, не ужасающим. Последователям Александра Васильевича досталось такое время, когда открытый Сухово-Кобылиным «род смеха» оказывался единственным. Только так можно было, по словам Маяковского, «поговорить о дряни», воцарившейся в обществе победившей революции. Одним из первых понял художественную суть «Смерти Тарелкина» критик Д. П. Голицын, писавший в 1900 году, что в «комедии-шутке» мы видим «фарс, невероятный, сбивающий с толка, как самые крайние измышления Козьмы Пруткова. Здесь не рисунок, а карикатура, набросанная рукою художника. Как ни на