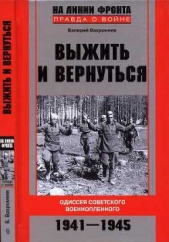Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка
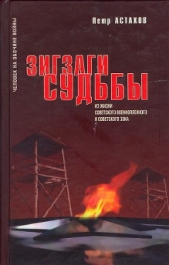
Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка читать книгу онлайн
Судьба провела Петра Петровича Астахова поистине уникальным и удивительным маршрутом. Уроженец иранского города Энзели, он провел детство и юность в пестром и многонациональном Баку. Попав резервистом в армию, он испытал настоящий шок от зрелища расстрела своими своего — красноармейца-самострельщика. Уже в мае 1942 года под Харьковом он попал в плен и испытал не меньший шок от расстрела немцами евреев и комиссаров и от предшествовавших расстрелу издевательств над ними. В шталаге Первомайск он записался в «специалисты» и попал в лагеря Восточного министерства Германии Цитенгорст и Вустрау под Берлином, что, безусловно, спасло ему жизнь. В начале 1945 из Рейхенау, что на Боденском озере на юге Германии, он бежит в Швейцарию и становится интернированным лицом. После завершения войны — работал переводчиком в советской репатриационной миссии в Швейцарии и Лихтенштейне. В ноябре 1945 года он репатриировался и сам, а в декабре 1945 — был арестован и примерно через год, после прохождения фильтрации, осужден по статье 58.1б к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, а потом, в 1948 году, еще раз — к 15 годам. В феврале 1955 года, после смерти Сталина и уменьшения срока, он был досрочно освобожден со спецпоселения. Вернулся в Баку, а после перестройки вынужден был перебраться в Центральную Россию — в Переславль-Залесский.
Воспоминания Петра Астахова представляют двоякую ценность. Они содержат массу уникальных фактографических сведений и одновременно выводят на ряд вопросов философско-морального плана. Его мемуаристское кредо — повествовать о себе искренне и честно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Число содержавшихся здесь пленных доходило до нескольких сот человек.
Начальником лагеря, он же командир батальона, был капитан Енукидзе — высокий грузин красивой внешности, с молодцеватой выправкой, аккуратно подстриженными усами на худом вытянутом лице. Ему было лет 46–48. По лагерю ходили слухи, что Енукидзе был родным братом расстрелянного в 1938 году Авеля Енукидзе, бывшего друга Сталина, работника ЦК Грузии, а затем московского партаппарата.
Не могу сказать, как пришел в Кельце капитан Енукидзе. Остается предположить, что в назначении его на эту должность сыграла родственная связь с расстрелянным братом и создание к этому времени в составе Wehrmachta национальных легионов.
Помощником командира батальона был старший лейтенант Невзоров — моложе Енукидзе лет на пять. Выглядел добродушным человеком с круглым лицом, пухлыми, румяными щеками и всем видом своим выдававшим русское происхождение. В нем не было никаких признаков военного — трудно было понять на какой почве сошлись капитан Енукидзе и старший лейтенант Невзоров.
Жили они в отдельном домике, на меньшей половине лагеря. Оба одеты в форму французских легионеров и внешне напоминали испанских республиканцев времен войны с Франко. Пользовались одинаковыми правами и довольствием с немецкими тыловыми офицерами, имели двух ординарцев из числа пленных.
Когда на следующий день мы вышли на Appelplatz, в центре большой лагерной территории, используемой для общего построения и проведения ежедневных проверок, нас определили в новое подразделение и сказали, что скоро оденут. Стоял октябрь, а я по-прежнему, ходил босой, в лагере, видимо, не хватало верхней одежды и обуви, и мы еще какое-то время были в своих лохмотьях — так выглядели мои армейские вещи, впитавшие в себя грязь и запахи человечьего стойла.
Когда было холодно, мы кутались в одеяла — их нам выдали для двухъярусных кроватей, чтобы укрываться ночью. В них же разрешали выходить на проверку, но не выпускали из лагеря на работу, и тогда оставшиеся в лагере занимались уборкой помещений и территории.
Считая труд своей привилегией, я брался за любую работу и старался быть первым там, где нужна была помощь. Этот порыв заканчивался, как правило, в мою пользу. Я и по сей день отстаиваю его, когда заходит разговор о том, что «работа дураков любит». Помочь в трудную минуту и броситься на выручку знакомому или чужому человеку — это не «холуйство», как считают.
В Кельце я встретил азербайджанца из Баку, молодого паренька — запомнил его имя. В чужих краях они именуют себя короткими, на русский манер, именами. Моего земляка звали Аликом, и очень может быть, что имя его произошло от азербайджанского — Али.
Он работал у Енукидзе ординарцем и несколько раз приглашал в дом хозяев, где кормил тем, что было на кухне, — традиция восточного гостеприимства сохранялась и там. С его помощью я получил старенький, но без дыр и заплат французский шерстяной френч с четырьмя громадными карманами и латунными пуговицами, брюки навыпуск из такого же материала, пилотку и деревянные сабо, так как ботинок на складе не оказалось (их я получил несколько позднее). Нательное белье я постирал и, в чистой одежке, почувствовал себя увереннее — жизнь улыбнулась, наконец, и протянула руку помощи.
С первого же дня изменился дневной рацион. Вечерами мы получали сухой паек — это было солдатское довольствие тыловых немецких частей, — его, вероятно, должны были получать добровольцы-легионеры. Кроме сухого пайка, дважды в день готовили горячую пищу.
Что бы все это значило?
Ответить определенно на это было невозможно.
Неужели здесь будут готовить из нас национальных легионеров?
Позднее стало понятно, что питание, которое здесь получаем, должно привести доходяг-пленных в нормальное состояние. И тогда, видимо, будет принято решение: кого куда.
— «Боком» нам выйдет это питание потом, Иосиф Виссарионович нам такое не простит — так, кажется, думал каждый, кто оказался в Кельце.
Между тем жизнь продолжалась по своему обычному распорядку. После утренней проверки конвой забирал пленных на работу. Состав держался стабильно. Прибывали лишь небольшие группы офицеров из Владимира-Волынска, Ченстохова. Эти группы почти не влияли на списочный состав.
Новички делились информацией о лагерях.
Знали ли пленные лагеря Кельце, куда уходят отсюда этапы, что их ожидает впереди? Есть ли связь между «специалистами», отобранными в Первомайске для работы на заводах в Германии, и теми, кого подкрепили пайком и привели в порядок в Кельце? Сюда доходили разноречивые слухи о лагерях, находящихся в Германии, — можно ли им было доверять? Информация замыкалась вся на лагере, где преподавателями по общественным дисциплинам был организован учебный процесс, на семинарах и т. п. После окончания программы пленные уезжали на оккупированную территорию.
По слухам было ясно, что пребывание в Кельце продолжается не более трех месяцев. Никакого собеседования и отбора здесь не проводят — пленных просто под конвоем отправляют в Германию.
Что это? Замаскированный «отбор»? Как же реагировать нам на эти «обстоятельства»? Для чего отправляют пленных в оккупированные районы? И куда «отправляют» тех, кто «отказывается» от дальнейших занятий?
Вопросов много, а ответить на них не могут люди опытные и искушенные.
Мой опыт не разрешал эти вопросы. Я не мог решиться на отчаянный поступок и совершить побег — прожитые годы не ставили передо мной таких задач, поэтому я не видел выхода. В чрезвычайных обстоятельствах человек должен уметь убить: заколоть, зарезать, задушить, застрелить, когда это потребуется — я не знал за собой таких качеств, а без них решиться на побег было бессмысленно.
Что же делать?
Плыть дальше, полагаясь на судьбу?
Вокруг были люди. Разные по возрасту и образованию, религиозным и нравственным убеждениям, по представлениями о долге. Нужно было искать хороших людей — они помогут, поддержат, посоветуют.
Я в те годы только-только пытался найти нужный путь, чтобы выжить, не видел замаскированных преград и опасностей, преодолеть которые помогает жизненный опыт. Я не имел ни синяков, ни шишек и тем скорее мог получить их.
Представившаяся возможность окунуться в котел с человеческой массой и вариться в нем позволяла увидеть людей изнутри, уметь рассмотреть их замыслы и поступки. Плохое я обходил и поэтому мало разочаровывался. За хорошее держался двумя руками. Настоящую дружбу понимал, как проявление искренности, добра, любви, взаимопонимания.
Те, кто попал в Кельце, прошли через отбор комиссии, и первое же знакомство с ними определяло их в категорию людей, с которыми интересно общаться.
Я жил в казарме для молодежи, расположенной рядом с проходной. Из своего окружения могу вспомнить только нескольких человек. Одного звали Валентином. Пытался вспомнить его фамилию, но не уверен, что пришедшая на память его настоящая — то ли Ващенко, то ли Зощенко, меня преследует такое сочетание.
Он был преподавателем литературы. Хорошо владея речью, образно и интересно рассказывал анекдоты. При рассказе умел сдерживать эмоции — выдавали его уголки глаз. Скуластое с заметными рябинками лицо, было спокойно в эти минуты, а слушатели закатывались от смеха.
Впервые от «рябого» Валентина я услышал знаменитую поэму Баркова, приписываемую за стихотворный стиль Александру Сергеевичу.
Но к этому, «разбитному и компанейскому» малому, интересному рассказчику я почему-то не испытывал духовного тяготения и не поверял ему своих тайн и мыслей, не стал его другом.
Моим товарищем в Кельце и Германии был и молодой лейтенант Володя Блинков. Спортивного сложения, он будто был создан для военного. Ладно скроенный французский китель, ремень с портупеей, армейские начищенные сапоги очень подходили к его молодцеватой внешности.
Выправка и навыки в строевой подготовке определили ему должность взводного в Кельце. Незадолго до начала войны Володя окончил общевойсковое училище и в отличие от многих советских командиров тех лет, пришедших в армию из рабоче-крестьянской среды, был начитан и образован. Родился он на Северном Кавказе, был похож на молодого Мозжухина и, видимо, нравился женщинам за удаль и непринужденные манеры.