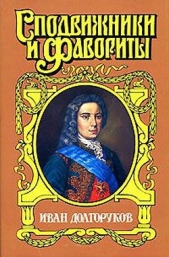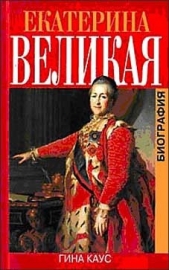Мемуары

Мемуары читать книгу онлайн
Впервые опубликовано в сети на сайте «Российский мемуарий» (http://fershal.narod.ru)
Полное соответствие текста печатному изданию не гарантируется.
Текст приводится по изданию: Императрица Екатерина II. «О величии России». М., ЭКСМО, 2003
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пехлин сделал об этом доклад великому князю. Этот страстно любил свою Голштинскую страну. С Москвы уже представляли Его Императорскому Высочеству о ее несостоятельности. Он попросил денег у императрицы. Она дала ему немного; эти деньги не дошли до Голштинии, но ими были уплачены самые неотложные долги Его Императорского Высочества в России. Пехлин представлял дела в Голштинии со стороны финансов безнадежными; это Пехлину было не трудно, потому что великий князь полагался на него в управлении и мало или вовсе не обращал на него внимания, так что однажды Пехлин, выведенный из терпения, сказал ему, медленно отчеканивая слова: «Ваше Высочество, от государя зависит вмешиваться или не вмешиваться в дела его страны; если он не вмешивается, страна управляется сама собою, но управляется плохо».
Этот Пехлин был человек очень маленький и очень толстый, носил громадный парик, но он не лишен был ни знаний, ни способностей; в этой короткой и толстой фигуре жил ум тонкий и проницательный; его обвиняли только за неразборчивость в средствах. Великий канцлер граф Бестужев имел к нему большое доверие, и это был один из его ближайших доверенных. Пехлин докладывал великому князю, что слушать — не значит вести переговоры, а от ведения переговоров до принятия условий еще очень далеко, что в его власти будет всегда прервать их, когда он найдет это нужным,— словом, мало-помалу, он заставил его разрешить Пехлину выслушать предложения датского посланника и этим переговоры были открыты. В сущности, они огорчали великого князя; он стал мне о них говорить. Я, которая была воспитана в старинной вражде Голштинского дома против Датского и которой всегда проповедовали, что граф Бестужев всегда имел только вредные великому князю и мне планы, я приняла известие об этих переговорах с большим раздражением и беспокойством и противодействовала им у великого князя, сколько могла; мне, впрочем, кроме него, никто не говорил об этом ни слова, и ему предписывали держать это в величайшей тайне, в особенности, прибавляли, по отношению к дамам. Я думаю, что это предостережение касалось меня больше, нежели других; но в этом ошибались, потому что первым делом великого князя было сказать мне об этом.
Чем больше подвигались переговоры, тем больше старались выставить их великому князю в благоприятном и заманчивом виде; часто я видела его в восхищении от того, что он приобретет; затем он испытывал мучительные колебания и сожаления о том, что ему приходилось потерять. Когда видели, что он колеблется, замедляли переговоры и возобновляли их лишь после того, как изобретали какую-нибудь новую приманку, чтобы заставить его видеть вещи в благоприятном свете.
В начале весны нас перевели на житье в Летний сад, в маленький Петровский домик, где комнаты выходят прямо в сад; ни каменной набережной, ни моста на Фонтанке тогда еще не существовало. В этом домике у меня было одно из самых сильных огорчений, какие я имела в царствование императрицы Елисаветы. Как-то раз утром пришли сказать мне, что императрица уволила от меня моего старинного камердинера Тимофея Евреинова. Предлогом для этого изгнания была ссора Евреинова в моей гардеробной с человеком, подававшим нам кофе; на эту ссору пришел великий князь и услышал часть ругательств, которыми они обменивались. Противник Евреинова пошел жаловаться Чоглокову и сказал, что тот наговорил ему, без всякого уважения к присутствию великого князя, массу грубостей. Чоглоков тотчас же доложил об этом императрице, которая велела обоих уволить от двора, и Евреинова сослали в Казань, где он был впоследствии полицмейстером. Правда в этом деле заключалась в том, что и Евреинов, и другой лакей были к нам очень привязаны, особенно первый, и это было лишь давно желанным предлогом, чтобы удалить его от меня; у него было на руках все, что мне принадлежало.
Императрица приказала, чтобы человек, которого Евреинов взял в помощники и которого звали Шкуриным [cv], занял его место; к этому человеку я не имела тогда никакого доверия. Вскоре нас перевели из Петровского домика в Летний деревянный дворец, где нам приготовили новые покои; одна сторона дворца выходила на Фонтанку, которая была тогда лишь грязным болотом, а другая — на гадкий узкий дворишко.
В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посланника г-жу Арним поехать со мною верхом в Екатериненгоф. Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом, и уверяла, что справляется с этим отлично; императрица хотела видеть, насколько это правда. Я послала пригласить госпожу Арним ехать со мною. Это была высокая, стройная женщина лет двадцати пяти-шести, несколько худощавая и очень некрасивая, лицо у нее было слишком длинное и рябоватое, но так как она хорошо одевалась, то издали она производила известный эффект и казалась довольно беленькой. Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном; куртка была зеленая гродетуровая, тоже вышитая золотом. Она не знала, куда девать шляпу и руки, и показалась нам довольно неуклюжей. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, отделанную хрустальными пуговицами, которые до неузнаваемости походили на брильянты, и черная шапочка моя была окружена шнурком из брильянтов. Я спустилась, чтоб садиться на лошадь; в эту минуту императрица пришла к нам в комнаты посмотреть, как мы поедем. Так как я была тогда очень ловка и очень привычна к верховой езде, то, как только я подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая у меня была разрезная, я спустила по бокам лошади.
Мне передали, что императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: «Можно поклясться, что она на мужском седле». Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью перед Ее Императорским Величеством. Эта дама велела привести свою лошадь из дому; то была старая вороная кляча, очень большая и тяжелая и, как уверяли наши придворные, упряжная из ее кареты. Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Все это сопровождалось всякими церемониями, и, наконец, с помощью нескольких лиц, она уселась на свою клячу, которая пошла довольно неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стременах и которая держалась рукой за луку. Видя, что она села, я поехала вперед, а за мной кто мог, тот и поспевал.
Я догнала великого князя, который уехал вперед, а Арним со своей клячей осталась позади. Мне говорили, что императрица очень смеялась и не осталась довольна верховой ездою Арним. На некотором расстоянии от двора, кажется, Чоглокова, ехавшая в карете, взяла к себе эту даму, терявшую то шляпу, то стремена; наконец, нам ее доставили в Екатериненгоф, но приключения этим еще не закончились. В этот день шел дождь до трех часов пополудни, и площадка у лестницы Екатерингофского дома была покрыта лужами; сойдя с лошади и пробыв некоторое время в зале этого дома, где было много народу, я вздумала пройти через открытый подъезд в комнату, где были мои женщины. Арним хотела идти за мною, и так как я шла очень скоро, то она поспевала только бегом, попала в лужу, поскользнулась и растянулась во весь рост,— это вызвало смех многочисленных зрителей, бывших на крыльце. Она поднялась немного сконфуженная, свалила всю вину своего падения на новые сапоги, которые в этот день надела. Мы вернулись с прогулки в карете, и по дороге Арним расхваливала нам доброту своей клячи, а мы кусали губы, чтоб не рассмеяться. Одним словом, в течение нескольких дней она была посмешищем двора и города. Мои женщины уверяли, что она упала потому, что хотела мне подражать, не будучи так ловка, как я. Чоглокова, которая не была смешлива, хохотала до слез, когда ей об этом напоминали, и даже долгое время спустя.