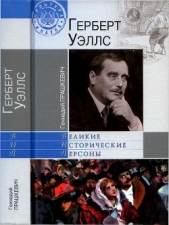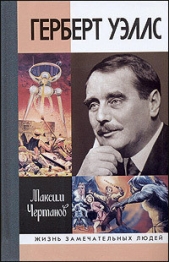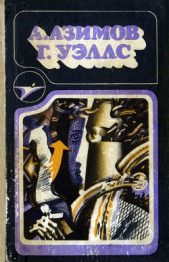Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, свободных часов было не слишком много — я все-таки приехал на «мероприятие», вернее на целую серию мероприятий, и не всюду удавалось быть просто зрителем. Как ни странно, легче всего далось выступление по телевидению, хотя опыта в этом отношении у меня не было никакого. Нас с Марией Игнатьевной и еще одним журналистом, выступавшим с нами, так мило приняли, что я почувствовал себя как дома, да и разговор оказался очень простой — меня попросили рассказать о пятнадцатитомном собрании сочинений Уэллса, которое я за два года до этого редактировал. Из вопросов и комментариев ведущего я понял, что оно произвело на англичан очень большое впечатление. В год юбилея, после долгого перерыва, в Англии было опубликовано более двадцати книг Уэллса, но все равно о таком предприятии, которое в 1964 году осилили в Москве, никто не мог и помыслить. Впрочем, уэллсовский бум 1966 года тоже говорил сам за себя, и я, помню, выразил удовлетворение, что слава Уэллса, распространяясь по миру, достигла наконец Лондона. Все засмеялись, и я совсем успокоился: шутки здесь понимают. А вот выступление в международном ПЕН-клубе далось куда труднее. Перед поездкой я обещал «Литературной газете» дать подробный отчет об этом заседании, и все время, пока выступали, минут по пять-десять, английские писатели, съехавшиеся чуть ли не в полном составе, я сидел и старательно записывал то, о чем они говорили. И чем дальше, тем больше приходил в ужас: я все больше убеждался, что моя речь, заранее заготовленная в Москве, никак не вписывается в происходящее. Все здесь было как-то очень по-своему, в манере, одним англичанам, наверно, присущей, — сразу и очень простой, вроде бы совсем неофициальной, и очень деловой. Почти обязательно с каким-нибудь занятным поворотом мысли, но без лишних слов. И ко всему прочему — незнакомая аудитория. Я уже работал к тому времени несколько лет в ГИТИСе, а до этого и в других местах, так что некоторый лекторский опыт имел, и этот опыт подсказывал, что будет трудно. Меня тут не знают, и я никого не знаю. Особенно подавлял Пристли. Он вел заседание, и у него были все повадки великой личности. Я понимал, что нормальному человеку трудно пережить ту огромную славу, которая обрушилась на него в годы войны, когда его голос по радио изо дня в день поддерживал веру и надежду в миллионах англичан. Но одно дело понимать, а другое — видеть. Перед заседанием нас познакомили. Он дал мне минутку полюбоваться на себя, сказал, что, да-да, в Москве тоже был, хорошо принимали, и куда-то исчез. Потом, много лет спустя, я с искренним чувством написал статью к девяностолетию со дня его рождения: я очень хорошо представлял себе, как тяжело было такому человеку пережить ослабление интереса к его драматургии после прихода в 1956 году «рассерженных», а тогда я только с возрастающим нетерпением — чтоб не томиться больше — ждал, когда он меня объявит. Наконец этот момент наступил. Пристли сказал несколько слов, сделал величественно-снисходительный жест в мою сторону, и я вышел на трибуну. Глянул в зал и увидел перед собой человек триста. Все — писатели, все — английские, все пишут на родном языке — и понял, что спасения ждать неоткуда, надеяться не на кого. Выручило то, что я не стал подделываться под их манеру — все равно бы не получилось — и начал просто разговор, ожидая момента, когда между нами протянутся какие-то человеческие нити. И вот кто-то посмотрел на меня повнимательней, кто-то улыбнулся, значит, можно было переходить к делу. Московский текст все-таки пригодился: я, во всяком случае, не думал, о чем говорить дальше. Меня дослушали, даже похлопали, и я достаточно твердым шагом дошел до своего места в первом ряду, где сидели все выступающие, но когда попробовал записать речь следующего оратора, то обнаружил, что не понимаю ни слова…
К счастью, заседание скоро закончилось. Все стали понемногу подниматься и переходить в соседний зал, где был накрыт банкетный стол. Я не сдвинулся с места. И тут ко мне подошел огромный молодой парень (мы потом выяснили, что он на год старше меня) и сказал: «Здравствуй, Юлий! Я Брайан Олдис. Ты знаешь — я писал про тебя!» Да, я знал, что Олдис написал одну из рецензий на мою книжку, и притом очень умную и доброжелательную. «Спасибо, Брайан, — сказал я, — но я, кажется, разучился говорить по-английски». «Ничего, пойдем выпьем, заговоришь». В самом деле, я скоро заговорил…
Олдис был начинающим писателем, на литературные гонорары существовать не мог, поэтому работал в газете, придерживался откровенно левых взглядов и жил в деревне в трехкомнатном доме под соломенной крышей. Я побывал у него в гостях. В деревню мы почему-то въехали на самой малой скорости. У каждого домика стоял и чем-то занимался его хозяин. Потом Брайан объяснил, что соседи специально просили показать им русского. Сейчас Олдис живет в большом доме в Оксфорде. В Бодлеанской библиотеке, так называют библиотеку Оксфордского университета, по имени ее основателя сэра Томаса Бодли (1545–1613), существует постоянная выставка его книг, он признанный стилист, что достаточно редко можно сказать о писателе-фантасте, и, кажется, перестал жалеть, что у него нет университетского образования. Зато теперь он чаще вспоминает, что начинал приказчиком в книжной лавке — в эту лавку Олдис специально меня возил.
Позднее Уэллс нас связал еще раз. И об этом стоит рассказать.
Году в 1970-м Мария Игнатьевна попросила меня помочь Норману Маккензи, работавшему прежде в лейбористском еженедельнике «Нью стейтсмен», и его жене Джинн. Они решили написать книгу об Уэллсе. Я охотно откликнулся, и мы вступили с супругами Маккензи в оживленную переписку. Переписка оборвалась в тот самый момент, когда авторы, чья дотошность мне очень нравилась, получили от меня все сведения, в которых нуждались. Книгу свою они мне, разумеется, не прислали: она как-никак стоила около шести фунтов. Я получил ее из журнала «Лейбор мансли», редактором которого был тогда Палм Датт, с просьбой написать рецензию, и примерно месяц спустя после того, как я рецензию отослал, получил от Олдиса ксерокопию его собственной рецензии на ту же самую книгу. Называлась эта заметка из «Оксфорд мейл», где Олдис работал редактором, не очень, я бы сказал, для газеты привычно — «Как варил котелок у одного человека». И там (честное слово, мы не сговаривались!) было написано почти то же, что я написал для «Лейбор мансли»! Олдис тоже отдавал должное обилию материалов, собранных в маккензиевском «Путешественнике во времени» (1973), но при этом напомнил, что Уэллс был не только человеком со сложной, запутанной и не во всем безупречной биографией, но и чем-то большим, чего авторы не сумели ни понять, ни по достоинству оценить. Кончалась рецензия Олдиса так: «У Герберта Уэллса было много недостатков, но для миллионов людей по всему свету его присутствие в нашем мире сделало жизнь лучше».
Но пора вернуться к уэллсовскому юбилею 1966 года.
Случилось то, о чем я раньше не смел и мечтать: я побывал в Бромли — городе, где родился Уэллс, — сел в поезд на одном из лондонских вокзалов и отправился в путь. И хотя старательно смотрел в окно, я не заметил, где кончился Лондон и начался Бромли. Жители по-прежнему считают его отдельным городом, но административно он уже вошел в состав Большого Лондона и официально именуется «лондонский боро Бромли». Переводить слово «боро» просто как «район» было бы не совсем точно. Это историческое понятие, связанное с правом посылать депутата в парламент, нечто вроде избирательного округа или, скажем, самоуправляющейся административной единицы, но дело, в конце концов, не в том. Бромли, хотя его не отделяет ныне от Лондона даже узкая полоска полей, до сих пор все же отдельный город со своим центром, своей хозяйственной жизнью и, главное, своим самосознанием. Город старательно хранит память о прошлом, и ему есть что вспомнить. Здесь родились Уильям Питт и Герберт Уэллс, долго жил Кропоткин, неподалеку находилось имение Дарвина. Но Бромли стремительно растет. Прошлое нуждается сейчас в специальной заботе, и если дом Кропоткина по-прежнему в целости и сохранности, то жалкая лавчонка, где вырос Уэллс, да и соседние лавки давно разрушены. Ушла в прошлое Большая улица с прижавшимися друг к другу домиками, исчез великолепный мясник, сфотографировавшийся некогда около развешанных на улице туш, погибла приспособленная под классную комнату судомойня, в которой проходил курс наук восьмилетний Уэллс. Удивительное совпадение: и дом Уэллсов, и вся эта улица разрушены в 1934-м, в тот самый год, когда Уэллс на обратном пути из Москвы, в Калли-Ярве (Эстония), завершил два тома своей автобиографии. Дом и улица словно перешли на бумагу, сделались достоянием литературы, и им незачем было существовать, в действительности. На их месте возвели большой новый дом с магазином; в 1959 году на его стене появилась мемориальная доска. К юбилею в его витринах устроили выставку мод времен детства Уэллса.