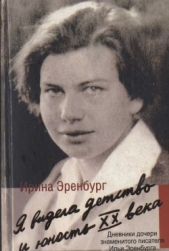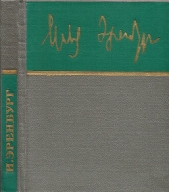Воспоминания об Илье Эренбурге

Воспоминания об Илье Эренбурге читать книгу онлайн
Жизнь Ильи Эренбурга тесно связана с крупнейшими событиями двадцатого столетия. Книга воспроизводит многие страницы этой замечательной биографии. Воспоминания писателей К. Федина, Н. Тихонова, А. Твардовского, К. Симонова, А. Суркова, К. Паустовского, Б. Полевого, М. Алигер, С. Наровчатова, Л. Мартынова и других, художников М. Сарьяна и А. Гончарова, маршала И. Баграмяна и генерал-майора Д. Ортенберга, деятелей искусства С. Образцова, Л. Вагаршяна воссоздают впечатляющий образ И. Эренбурга писателя и публициста, своеобразного поэта, видного общественного деятеля. Читатель видит И. Эренбурга в различных обстоятельствах — в годы создания первых книг стихов и романов, в республиканской Испании, на фронтах Великой Отечественной войны, в редакции газеты "Красная звезда", на международных форумах в защиту мира, в многочисленных зарубежных поездках.
Из свидетельств людей, близко знавших писателя, мы узнаем о его человеческих качествах, о его творческой работе.
Составители Г. Белая, Л. Лазарев.
На переплете помещен портрет И. Эренбурга работы Пикассо 1948 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Яков Мальцев писал мне:
"Убедительно прошу вас обработать мое корявое письмо и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина".
Я исполняю последнее желание погибшего сержанта".
Далее писатель приводит полный текст письма Мальцева и небольшое взволнованное послесловие:
"В горькие дни отступления такие люди, как старшина Иван Лычкин, закладывали фундамент победы. На пути германской армии встали смельчаки…
Но, думая о подвиге старшины Ивана Лычкина, я неизменно возвращаюсь мыслями к погибшему под Сталинградом сержанту Якову Мальцеву. Он молчал о себе: как будто он ничего и не сделал. Всех убитых немцев он занес на счет своего боевого друга. Рассказ о подвиге Лычкина озаряет бледное лицо Мальцева. Я не знаю, как ему суждено было умереть, но я знаю, что он погиб смертью героя. Он погиб под Сталинградом, когда на востоке едва проступала заря нашей победы. Друг Ивана Лычкина не мог погибнуть иначе.
Я думаю о том, как Мальцев писал свое письмо. Это было перед боем. Товарищи молчали, курили, каждый о чем-то напряженно думал среди предгрозовой тишины. Что томило Мальцева? Не страх, не тоска, даже не думы о близких, а наверно, были у него и дом, и родные. Мальцев болел одним: вот он умрет, и никто не узнает о подвиге Ивана Лычкина. Высокое чувство дружба — воодушевляло Мальцева в последнюю ночь перед боем, в последнюю его ночь. Много на войне жестокого, темного, злого, но есть в ней такое горение духа, такое самозабвение, какого не увидишь среди мира и счастья".
Это горение духа и самозабвение были присущи и самому Эренбургу, и поэтому так душевно и проникновенно писал он о солдате.
На каждое письмо Эренбург отвечал даже тогда, когда, казалось, и не требовалось ответа. Во время войны выходили сборники его статей, напечатанных в "Красной звезде". Писатель закупал их в огромном количестве и ни одному фронтовику не отказывал в просьбе прислать книжку с автографом. Когда кто-то спросил однажды писателя не без скепсиса: неужели он отвечает всем без исключения, кто ему пишет, Илья Григорьевич ответил: "Всем. Без исключения. Это все — мои друзья".
Письма фронтовиков были родником для его творчества и, думаю, душевной опорой в жизни.
Эренбург все время рвался на фронт, но я его сдерживал. Все-таки был он уже немолод, а то, что он писал, было настолько ценно и важно, что вряд ли кто упрекнул бы «штатского» писателя за относительно тыловой образ жизни. Упрекнул бы один только человек — сам он. Бесстрашие Эренбурга было известно еще по Испании, и мне не очень-то хотелось пускать его на фронт, не хотел я рисковать жизнью писателя.
Зная его способность лезть под огонь, я решил, что лучше, если я сам его «вывезу» на фронт, все же мне легче будет с ним совладать, чем кому-нибудь другому, если не убеждением, то хотя бы своей редакторской властью.
Такой случай вскоре мне представился. В последних числах августа я узнал, что перед войсками Брянского фронта поставлена задача разбить танковую группу Гудериана, являвшуюся серьезной угрозой правому флангу Юго-Западного фронта, и мне захотелось увидеть эту баталию.
Вечером я поднялся на третий этаж редакционного здания к Илье Григорьевичу. Он выстукивал на «Короне» очередную статью в номер. Я сказал, что отправляюсь на Брянский фронт и, если у него есть желание, он может поехать со мной.
Илья Григорьевич сразу же воодушевился:
— Я готов, даже сейчас.
— Сейчас нельзя, — успокоил я его, — сейчас нужна ваша статья, а завтра утром приходите. Я скажу нач. АХО, он вас экипирует.
Рано утром Илья Григорьевич был уже в редакции. Впервые я его увидел в военной форме. Вид у него был далеко не бравый. Из того, что имелось на вещевом складе редакции, для его худощавой и сутулой фигуры с грехом пополам подобрали гимнастерку и бриджи, сапоги оказались большими, голенища болтались, как колокола. Из-под пилотки все время выползали космы, это его раздражало, и он все время ее поправлял.
Мы сразу же отправились в путь. С нами был еще Борис Галин: редакция направила его на работу в постоянную группу корреспондентов Брянского фронта.
Ночевали мы в Орле, в большой комнате какого-то штаба. Эренбург улегся на диване, а Галин по молодости примостился на столе. Должны были мы выехать рано, но произошла задержка. Эренбург, оказалось, еще дома никак не мог освоить выданные ему портянки, и Любовь Михайловна дала ему какие-то бело-розовые обмотки. И вот теперь Илья Григорьевич мучился, наматывал их, разматывал, снова наматывал, пока с помощью Галина не одолел их.
В Москве мы захватили с собой пачку свежих газет и на первом же контрольно-пропускном пункте фронта, где скопилось много машин, вручили группе бойцов один экземпляр "Красной звезды". Взяв газету, старший лейтенант сразу же спросил:
— А Эренбург здесь есть?
— Есть. И здесь и там, — ответил я и показал на машину, где в глубине сидели мои спутники.
Пришлось показать им «живого» Эренбурга. Беседа была недолгой. Мы торопились и сразу поехали дальше. Те же вопросы повторялись почти всюду, где мы раздавали газету. Я даже начал ревновать: почему, мол, спрашивают об Эренбурге, а не о других; молчат, скажем, о передовицах, которые мы считали важными, — они и в самом деле неплохо читались на фронте и в тылу. Когда я пожаловался ему на это, писатель улыбнулся и ответил:
— А я чей, я тоже ваш…
К полудню мы уже были на месте. В сосновом лесу, в нескольких километрах от пылающего Брянска, разыскали командный пункт фронта. В деревянном с большой верандой домике лесника нашли командующего фронтом генерала А. И. Еременко. Встретил нас он тепло и дружески.
Еременко стал рассказывать нам о делах фронтовых. Первые успехи достигнуты. Освобождены десятки сел. Словом, он не сомневался, что Гудериану будет нанесен сокрушающий удар. Вскоре подошел какой-то генерал, скуластый, широкий в плечах, вмешался в наш разговор. Из его замечаний можно было сделать вывод, что у немцев все идет к развалу.
Илья Григорьевич слушал его и улыбался: явственно чувствовалось, что этот генерал если не себя, то нас хотел взбодрить.
Возился с нами, устраивал нас рослый молодой офицер в распахнутой телогрейке. Еременко представил его:
— Вот это — сын легендарного полководца Пархоменко…
Потом Еременко повел нас к новобранцам, где должен был выступить.
"В детстве я был пастухом", — так начал свою речь генерал. Говорил он просто, душевно, а солдатский юмор помог ему сразу же установить контакт с молодыми бойцами. Был в его речи какой-то знакомый чапаевский колорит. Попросили и нас выступить. Выступление Эренбурга тоже произвело сильное впечатление на молодых солдат: говорил он, как всегда, короткими, отточенными фразами.
Вскоре подошел к нам начальник политуправления фронта Василий Макаров, дивизионный комиссар, мой старый знакомый. Он сказал, что в медсанбате лежат раненые поэт Иосиф Уткин и наш корреспондент Моран. Медсанбат был недалеко, в лесу, и мы сразу же помчались туда.
Уткина не застали, его уже эвакуировали, а Моран ждал своей очереди. Лежал он на соломенном матраце на полу, бледный, с запекшимися губами, и, увидев нас, улыбнулся. Литературный работник "Красной звезды", поэт Рувим Моран впервые выехал на фронт и был ранен. Из штаба полка он направлялся на передовую. Надо было идти траншеей, но он торопился и пошел по полю во весь рост. Там его и прихватила мина. Но об этом я узнал позже, а тогда я спросил Морана: "Как вас ранило?" Он ответил с шутливой интонацией: «Минометом».
Потом Макаров увез нас в полк, отвоевавший у врага несколько деревень. Штаб полка разместился в березовой роще. На траве, застланной плащ-палаткой, лежали свежие трофеи — куча вещей, найденных в немецких окопах. Чего там только не было! Старинная табакерка с французской надписью, русский серебряный подстаканник, дамские чулки и белье и много другого добра, наворованного и награбленного гитлеровцами. Рядом кипа бумаг. Эренбург, знавший безупречно немецкий язык, переводил: письма брошенных любовниц, адреса публичных домов во Франции, отношения конторы адвокатов по поводу какой-то тяжбы. Среди бумаг — целый ассортимент порнографических открыток. После Эренбург напишет: "Да, правы красноармейцы, — стыдно за землю, по которой шли эти люди. Как низко они жили! Как низко умерли!"