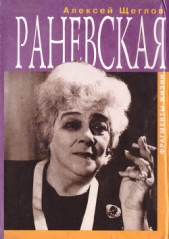Клочки воспоминаний

Клочки воспоминаний читать книгу онлайн
Фаина Георгиевна Раневская, урожденная Фельдман (1896–1984), — великая русская актриса. Трижды лауреат Сталинской премии, народная артистка СССР.
«Я дочь небогатого нефтепромышленника из Таганрога» — так говорила о себе Раневская. Фуфа Великолепная — так называли ее друзья и близкие. Невероятно острой, даже злой на язык была великая актриса, она органически не переносила пошлости и мещанства в жизни, что уж говорить о театре, которому она фанатично служила всю жизнь.
Фаина Раневская начинала писать воспоминания по заказу одного из советских издательств, но в итоге оставила это занятие, аргументируя свое решение следующим: «Деньги прожрешь, а стыд останется».
В этой книге по крупицам собраны воспоминания о великой актрисе ее коллег и друзей, ее высказывания — ироничные и злые, грустные и лиричные, письма актрисы, адресатами которых были Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату, утром он принес нам эти стихи «Красная Пасха»: «Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей. / И стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. / Восточный ветер выл в разбитых окнах. / А по ночам стучали пулеметы, свистя, как бич, по мясу обнаженных мужских и женских тел». Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.
Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.
Об Ахматовой
Вот что вспоминается.
Анна Андреевна лежала в Боткинской больнице (в тот период моей жизни я еще могла входить в больницу).
Часто ее навещала. Она попросила меня приехать после похорон Пастернака и рассказать ей все, что я видела. Она спрашивала, как все происходило. Горевала.
Смерть Бориса Леонидовича ее очень угнетала. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая духота, что над нами, над огромной толпой, висели свинцовые тучи, и дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Борис Леонидович во гробу был величавый, торжественный.
Анна Андреевна слушала внимательно, а потом сказала: «Я написала Борису стихи».
Запомнила не все, но вот что потрясло меня:
Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна…
В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую она звала «моя будка».
Я спешила к себе в Дом отдыха, опаздывала к ужину, она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед.
Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться.
Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще, но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.
Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено. Я подумала, что она спит.
— Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится.
Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «станция Ахматовка». Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: «Человека забыли!» Когда тяжко заболела Н. Ольшевская, ее близкий друг, она сказала: «Болезнь Нины — большое мое горе».
Она любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой, к своим, к Ардовым.
…В Ташкенте писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46-м году, потом пьесу сожгла. Через много лет восстановила по памяти.
В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философию, но ощущала, что это нечто гениальное. (Пьеса не была закончена. — М. Г.)
Она спросила, могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?
В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Муля!» Я спросила: «Анна Андреевна, а что у вас Муля?» Она подумала и сжала руки под темной вуалью. (Речь идет об известном стихотворении Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…». — М. Г.) Я закричала: «Не кощунствуйте!»
«Вот, вам известен еще один эпизод…» — ответила она тихо.
В первый раз придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.
«Пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку».
«У меня нет дров», — сказала она весело.
«Я их украду!»
«Если вам это удастся — это будет мило», — ответила она.
Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне платить нечем. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги — что, деньги — это еще не все!»
Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне. «А я сейчас встретила Платона Каратаева». — «Расскажите». — «Спасибо, спасибо», — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова.
У нее оказалось немного картошки. Мы ее сварили и съели. Я никогда не встречала более кроткого человека, чем она.
В Ташкенте мы были приглашены обе к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно.
И потом через много лет она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно; почему-то я не могу забыть этот вход барана».
Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», — рассердилась она.
Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила показать ей мои записи. «Вы себе представить не можете, Анна Андреевна», — сказала я ей. «Мадам, вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать», — ответила она и долго смеялась.
Я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала, а сколько там было замечательного!..
В 46-м году я к ней приехала. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала. Об этом мы не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу и, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». Долго молчала. «Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины?» Опять помолчала. Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» — «Нет», — сказала я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть».
Про чудесного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: «Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной».
Однажды сказала: «Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев — вкусная конфета, я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму».
Иногда она бранила меня, я огрызалась. Она говорила: «Наша фирма — „Два петуха!“».
Там, куда приходила Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Ее загоняли в будку. Потом при виде Анны Андреевны собака сама пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло. «Обратите внимание — собака при виде меня сама уходит в будку».
Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо, неповторимо прекрасное, делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал…
Я отдыхала с Анной Андреевной в доме писателей «Голицыне». Мы сидели в лесу на пнях. К ней подошла седая женщина, она назвала себя поэтом, добавив, что пишет на еврейском языке и что ее зовут «еврейской Ахматовой». «Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, и я их переведу». Они условились о встрече. (Речь идет о поэтессе Рахиль Баумволь, чьи стихи переводила А. Ахматова. — М. Г.)