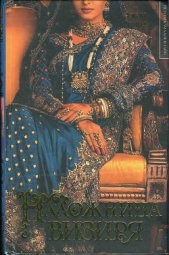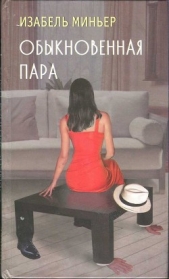Обыкновенная история в необыкновенной стране

Обыкновенная история в необыкновенной стране читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дорога на Камчатку длилась почти месяц: две недели ехали на поезде до Владивостока, а затем пересаживались на пароход и плыли до порта Петропавловск, откуда уже на вьючных лошадях по бездорожью следовали по восточному побережью Тихого океана к дельте реки Войамполки, где разбивался лагерь. Шли порой пешком, преодолевая разлившиеся весной реки, оборудование везли на лошадях. Тридцать человек экспедиции жили в палатках и питались лишь тем, что взяли с собой или смогли добыть на охоте в тайге. За шесть месяцев удалось обнаружить доказательства существования залежей нефти на больших глубинах. К началу октября экспедиция вышла на берег Тихого океана и расположилась лагерем в ожидании прихода ледокольного судна, которое должно было принять на борт экспедицию. Уже выпал снег, люди продолжали жить в палатках, все время уменьшался дневной рацион питания. Чтобы не люди не замерзли, им выдавали из запасов разведенный спирт и рыбий жир.
Как мне рассказывала мама, у отца было слабое сердце: он не мог долго идти в гору, одышка останавливала его. Иногда после волнения он становился совсем бледным и не мог выговорить ни слова. На одном из собраний в главной палатке отец был задумчив и грустен. Вдруг он встал, как вспоминал Ф. Двали, и, глядя куда-то вдаль, процитировал стихотворение А. Пушкина: «День каждый, каждую годину, готов я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж них пытаюсь угадать…». Это было так неожиданно, что все притихли и стали смотреть на него. В один из этих дней он пытался оседлать ретивую лошадь, и она, извернувшись, лягнула его прямо в грудь, так что он упал, и когда его подняли, долго не мог прийти в себя.
В начале ноября стало уже совсем по-зимнему холодно, а ледокол всё еще не приходил. Однажды, находясь на совещании в общей палатке, отец, как и все, выпил немного разведенного спирта. По прошествии нескольких минут он побледнел и почувствовал себя плохо. Его пришлось провожать до палатки, он еле шел. На ночь в палатке остался дежурить один из сотрудников, он при керосиновой лампе что-то писал, то и дело наклоняясь к отцу. Под утро он заснул. Рано утром сотрудники пришли проведать отца, он лежал на спине с закрытыми глазами и уже не дышал. Он был мертв.
Несколько дней спустя прибыл в бухту и ледокол. Решено было тело везти вместе со всей экспедицией во Владивосток, а затем в цинковом гробу в Ленинград. Но капитан оказался суеверным и наотрез отказался брать покойника на борт, предвидя трудный и опасный обратный рейс. Споры и уговоры ни к чему не привели. Отца похоронили на мысе, уходящем в океан, в устье реки Войамполки, опустив гроб в вечную мерзлоту. Федор Двали отрезал прядь его белокурых волос, чтобы передать их жене, моей маме. Они и до сих пор хранятся у меня.
Так мы с сестрой навсегда остались без папы. Последствия этой утраты я, как и моя мама, испытывал всю свою жизнь. Научные предвидения отца оправдались — нефть на Камчатке была обнаружена. Через год из скважин, пробуренных в местах, указанных отцом, пошла нефть. Но, к сожалению, она оказалась слишком густая и имела слишком малый процент жидких летучих фракций, так что промышленного значения иметь не могла. Теоретическое же значение его открытия до сих пор остается всеми признанным.
Мама знала, что возвращение экспедиции задержалось. Вот уже приехали многие из сотрудников, сообщили ей, что «отец заболел, прибудет позднее». Мама сразу почувствовала что-то неладное. Помню, сидит она, грустно задумавшись, и шепчет: «Его нет… Его нет…». Наконец, вернулся и его друг Двали. Он явился к нам не такой как всегда, а весь в черном. Нас, детей, сразу увели в детскую комнату, из которой я услышал через стенку приглушенный голос мамы: «Нет! Нет! Нет!» — и тишина. Прошли недели две, но нам, детям, еще ничего не сообщали. Особенно охраняли сестру Майю: отец особенно любил ее и делал приписки для нее в каждом своем письме. К нам в квартиру на несколько дней приехала жить бабушка. Вечером печальную весть сообщили сестре. Она была безутешна, весь день была в слезах, но мне ничего не говорила, хотя я уже обо всем догадывался. Наутро мама позвала меня в свою спальню, мне было уже шесть лет. Сначала она долго говорила со мной о чем-то постороннем, и только потом сказала, что «папа наш уже не вернется… его уже нет… он умер». Она ожидала, что я зальюсь слезами, но я стоял молча и продолжал рассматривать свои пальцы. Это был шок, охранительный шок. Комок поднялся и перекрыл мне дыхание, и так этот «комок» я чувствовал всю свою жизнь. В душе я всегда гордился своим отцом и старался подражать ему.
Эта трагедия перевернула жизнь всей нашей семьи. Вскоре нам пришлось из пятикомнатной квартиры на пятом этаже переехать в трехкомнатную на третьем этаже, окна которой выходили на двор. Мама вынуждена была идти работать. Она стала преподавать в детской музыкальной школе, а также прирабатывать еще и лаборанткой в Нефтяном геологическом институте, куда устроили ее папины товарищи, так что мы теперь видели ее только по вечерам, и всеми делами дома стала заправлять наша няня Настя.
Настя, Анастасия Васильева, числилась у нас, детей, в старых девах, так как ей шел уже третий десяток, а замужем она так и не побывала. Это была простая русская девушка, убежавшая со своей сестрой в город из деревни под Псковом, где в тридцатые годы разразился голод. Она закончила лишь пять классов приходской школы, но имела природный ум и сильную волю. Зачитывалась книгами из нашей домашней библиотеки.
К этому времени у нас осталась только одна няня, и трудно было себе представить, как она одна могла управляться со всем хозяйством: прибирать в комнатах, готовить обеды и следить за нами. В квартире царил порядок и дисциплина.
Я рос непослушным мальчиком и делал все наоборот, не терпя никаких приказов, и если бы не твердая рука Насти, трудно сказать, что бы из меня получилось.
Как ни старались захватившие власть большевики ликвидировать все, что напоминало о процветающей царской России, когда «калач стоил копейка штука», уклад и традиции Петербурга были еще сильны и они исчезали медленно. Во многих семьях продолжала держаться атмосфера еще «той жизни». Еще не все художественные ценности в квартирах были конфискованы, не вся мебель сожжена в каминах, не весь кузнецовский и мейсенский фарфор продан и не все костюмы и платья из бостона и коверкота сношены или перешиты. На улицах еще можно было встретить дам в шляпах с вуалькой и соболиной муфтой в руках, мужчин в пенсне и в пальто с черными бархатными воротниками и собачкой на поводу. Еще можно было побывать в домах, где почти все осталось на своих местах: с потолков свешивались хрустальные люстры, стояла ампирная мебель от Гамбса, на стенах в бронзовых рамах висели картины Клевера и Маковского и текинские ковры, в углах красовались ломберные столики со скульптурами псевдоклассики и застекленные шкафы с собраниями книг в тисненных золотом переплетах. Как ни активны были органы ЧК, домовые комитеты, комиссии по уплотнению и огромная свора завистливых добровольных доносчиков этих органов — ограбить и уплотнить всех петербуржцев за протекшие со времени красного переворота десять лет было непосильной работой.
Но на улицах уже заметно чувствовалось, что наступили другие времена. Все парадные двери были наглухо заколочены, входить нужно было через дворы по вонючим черным лестницам, идя вдоль помоек с бродячими голодными кошками и бегающими крысами. Барские квартиры превратились в огромные коммуналки, с общей кухней на много семей и единственным туалетом. В таких квартирах иногда еще сохранялись мраморные камины и художественная лепка на потолках. Но со стен уже исчезли картины в бронзовых рамах. Их заменили убогие фото в бумажных украшениях. И если отдельные предметы старинной мягкой мебели еще и сохранялись, то шелковая обивка их уже была изодрана домашними кошками и закапана кашей. Старинным паркетом топились железные печки, установленные прямо в старых гостиных.
Домовые комитеты и районные советы расселяли в эти барские квартиры своих новых советских чиновников, партийных активистов, вернувшихся с фронта красноармейцев. Высшие партийные работники, как Киров, Жданов, жили также не в новых советских, а в старых больших квартирах из 5–7 комнат в центре города.