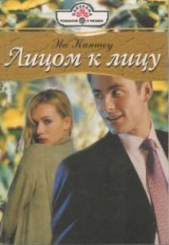Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина
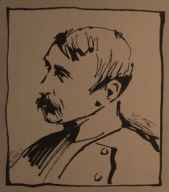
Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина читать книгу онлайн
Вместе с навсегда запечатлевающейся в душе онегинской строфой приходит к нам «меланхолический Якушкин», и «цареубийственный кинжал» романтически неожиданно блестит в его руке. Учебник охлаждает взволнованное воображение. Оказывается, этот представитель декабризма не отличался политической лихостью. Автор этой книги считает, что несоответствие заключено тут не в герое, а в нашем представлении о том, каким ему надлежало быть. Как образовалось такое несоответствие? Какие общественные процессы выразились в игре мнений о Якушкине? Ответом на эти вопросы писатель озабочен не менее, нежели судьбой и внутренним миром героя. Перу Л. А. Лебедева принадлежит более десятка книг, посвященных таким историческим лицам, как Чаадаев, Грибоедов, Чернышевский, Грамши, Писарев, Луначарский, и несколько сборников литературно-критических статей. Если читатель в свое время обратил внимание на некоторые из означенных работ, он, можно думать, не захочет пройти мимо этой книги об одном из самых внутренне близких нам сейчас тружеников свободы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В нашей специальной исследовательской литературе высказывается соображение относительно наличия в декабристском заговоре нескольких заговоров, о «заговорах в заговоре». С известной долей условности можно, наверное, говорить об этом, то есть о том, что был «заговор» Сперанского, а был и «заговор генералов», был еще «заговор прапорщиков» и т. д. Положим, так, но не в том, думается, самое существенное… «Русская Правда» Пестеля — не программа «русского пути» становления буржуазного общества в России. «Русская Правда» — это прежде всего определенного рода социальная утопия, сильной стороной которой было, как и во всех почти классических утопиях прошлого, отрицание сущего, а в положительной своей части эта утопия содержит идеи деспотические. Пестелевский проект имел в виду введение определенного рода диктатуры, которая, если судить хотя бы даже только по приведенным выдержкам, была бы достаточно всеобъемлющей — вплоть до полиции нравов и административной регламентации разного рода народных ликований, вплоть до «чтения в душах», если угодно. Не случайно пришла Завалишину-старшему в голову идея «Ложного Ордена», но не случайно в эту идею поверили некоторые идеологи декабризма, скажем, по некоторым сведениям, Рылеев. И если «Русская Правда» Пестеля — утопия, то «Ложный Орден» Завалишина-старшего — антиутопия, а вместе эти проекты составляют некую дилогию, смысл коей будет растолковываться историей в мельчайших узнаваемых деталях… Конечно, фигура Якушкина на этом идейном фоне обретает сейчас новый смысл и новое значение для нас. Можно было бы сказать, что это фигура антиэкстремистская, только слишком уж напрашивающимся пока еще представится такое утверждение, слишком готовым. Не так просто и прямолинейно, думается, все тут обстоит, о чем — ниже.
«Трудно было устоять против обаяний Союза, которого цель была: нравственное усовершенствование каждого из членов, обоюдная помощь для достижения цели… В дали туманной, недосягаемой виднелась окончательная цель — политическое преобразование отечества».
«…Надобно сказать, что и политический характер, принятый Обществом, подчинялся нравственному, принятому в основание Общества».
«…Основная мысль социализма и коммунизма тождественна с предписываемыми Евангелием обязанностями любви к ближнему и братолюбием… Если бы государства и народы были проникнуты духом Христовым, то форма правления была бы вещью равнодушной — и в монархиях и в республиках одинаково бы повиновались Христову закону; хотя, однако, форма республиканская и наиболее соответствует христианскому обществу. Вы справедливо заметили, любезнейший Евгений Петрович, что роскошь и даже так называемый комфорт не делает людей счастливыми и что физическая жизнь чем проще и безыскусственнее, тем более располагает сердце к принятию благодати; применяя это к русским крепостным, вы не обратили, однако, внимания на то, что, сохраняя эту благодетельную простоту, они еще более бы получили восприимчивости к действиям благодати, перестав быть вещами… Этому не противоречит и учение Христово, ибо во всей Европе что другое, как не это благодатное учение, уничтожило крепостное состояние; только в одной нашей России оно не произвело этих вожделенных последствий, да, кажется, в Византии до ее падения оставались рабы».
«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним поклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтоб непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами… И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть… Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле…»
«…Один — самый софистический ум, другой — самая доктринерская, самая деспотическая воля прошлого столетия, — Жан Жак Руссо и Робеспьер, — сыграли самую роковую роль в истории прошлого столетия. Первый был пророком доктринерского государства, а Робеспьер, его достойный и верный ученик, пытался на практике осуществить его учение и сделаться верховным жрецом новой доктрины… Руссо выдумал Высшее Существо, отвлеченного и бесплодного Бога деистов. И во имя этого Высшего Существа Робеспьер гильотинировал сперва геберистов, а потом самого гения революции, Дантона, в лице которого он убил республику, приготовив таким образом путь неизбежному с тех пор торжеству Наполеона».
В пору Якушкина «земельный вопрос» не был, по сути дела, вопросом собственно политико-экономическим. В известном смысле можно сказать, что он закономерно оказывался своего рода перифразой вопроса о свободе. И вместе с тем он был вопросом о той почве, на которую можно было бы опереться в борьбе за эту свободу, чтобы не повиснуть в воздухе, в частности, в конце концов, и в петле палача: императорского ли, какого-нибудь «неопугачевского» — все равно. Драма декабристов, думается, заключалась не только в том, что, согласно известнейшему ленинскому выражению, они были страшно далеки от народа, но и в том, что сблизиться с народом, который находился тогда на той ступени исторического развития, на которой, кроме нового издания пугачевщины, он произвести ничего не мог, декабристы революционным путем не хотели и не могли. Такое сближение было бы социальным самоубийством. Всякая новая пугачевщина едва ли не прежде всего как раз их бы — носителей дворянской политической активности — первым делом и смела бы с земли, со всем их окружением, со всей их культурой, со всеми их идеями свободы. Их же первых в этом случае перевешали бы и перерезали бы вместе с их женами, которым судьба готовила славную участь «декабристок». В таких условиях обращение к крестьянским массам было бы очевидной политической авантюрой с точки зрения интересов и задач дворянской революционности, а никакой иной в ту пору и не пахло. Декабристы фатально оказывались между молотом самодержавной карательной машины и наковальней слепой крестьянской стихии, ненавидевшей дворянство и верившей (вплоть до 1905 года!) в царя-батюшку. Не потому ли декабристы и испытывали столь острое чувство социального одиночества и даже обреченности («как славно мы умрем!»), не потому ли и обращались к солдатам от имени «хорошего царя» Константина? Не потому ли, в частности, и стояли на площади, что двинуться было исторически им некуда — впереди был царь, позади были их крепостные люди? Ощущение подвешенности было очень в высокой степени присуще многим из декабристов, и многие из них все тянулись и тянулись куда-то, словно стараясь каким-то образом хоть коснуться самой поверхности «почвы» под ногами, опереться, устоять, но «почва» уходила, а веревка натягивалась, тело по-особому распрямлялось и голова поднималась все выше. Это была поза последней гордости, несгибаемой — согнуться было нельзя, можно было только вывернуться и отскочить, но это был бы уже совсем иной сюжет, иной жизненный поворот, и на следствии, когда некоторые попробовали это сделать, было уже поздно. Было еще одно искушение — взглянуть вверх мимо петли и увидеть вместо петли что-то иное, за что, не имея под ногами «почвы», можно было бы уцепиться хоть взглядом и хоть так поддержать свой дух. Да нет, это не «красивые слова»! Что там! Феномен чуть не поголовного обращения декабристов к религиозному утешению в период следствия, вернее будет сказать, начавшийся в период следствия, иначе как и объяснить?