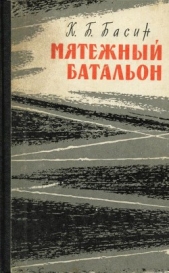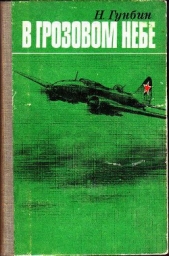С шашкой против Вермахта. «Едут, едут по Берлину наши казаки»

С шашкой против Вермахта. «Едут, едут по Берлину наши казаки» читать книгу онлайн
После катастрофических потерь 1941 года, когда Красная Армия утратила прежнее превосходство в бронетехнике, командованию РККА пришлось сделать ставку на кавалерию, увеличив количество кавдивизий в семь раз. Но, что бы там ни врала антисоветская пропаганда, красная конница никогда не ходила с шашками наголо в самоубийственные атаки на танки — кавалерийские корпуса Великой Отечественной имели тяжелое вооружение и огневую мощь, несравнимую с конармиями Гражданской войны. Так, автор этой книги был командиром минометной батареи 37-го гвардейского Донского казачьего полка, который с боями прошел тысячи километров от Кавказа до Австрийских Альп. Эти мемуары полностью опровергают расхожее мнение, что кавалерия якобы «безнадежно устарела» еще до начала Второй Мировой, воздавая должное советским казакам, поившим коней из Одера, Дуная, Шпрее и Эльбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что с тобою, дружище? — бодренько начал я. — По двору ходит-бродит Новый…
И осекся. У человека, видать, большое горе, беда, и мое бодрячество — неуместное, непутное и просто глупое. Серый чуб… «Он же седой!» — про себя ахнул я. Шагнул к Ковтуненко, положил руку на плечо, тихо спросил:
— Что случилось, Корней?
Он промолчал, отвернулся, пальцами стал тереть и без того красные глаза. Потом махнул рукой: не спрашивай, мол, ни о чем.
— Крепись, казак… — Я постоял еще немного, помолчал и вышел. Человеческому горю словом не поможешь. Но какое горе у Корнея, что его, сильного и крепкого, могло так согнуть?
— Что, спрашиваешь? — Глаза у Михаила Федоровича Ниделевича были тоскливыми. — У Ковтуненко то, что многих в дугу согнуть может. Пришел воин-освободитель в родной хутор, в станицу, в село, в отчий дом. А его, отчего дома, нет. И нет никого из родных: ни отца с матерью, ни жены, ни детей. Кто-то повешен, кто-то расстрелян, кто-то угнан в неметчину. Это же — фашизм! Стало быть…
И тоска в глазах комиссара мне стала понятной. В оккупированном Донбассе у него тоже осталась семья. От Михаила Федоровича я узнал, что вчера с первым эскадроном Ковтуненко ворвался в хутор, где размещалось пятое отделение совхоза. А хутора нет. Только печные трубы и пепелища. И ни одного мирного жителя нет. Где они, где старики-родители, жена и дети? Первый эскадрон обшарил все: балки в окрестностях, подвалы, погреба, овражки, колодцы. Нет! Всю ночь Корней просидел на пепелище своего бывшего дома.
— По ко-ням!
Благословенная команда для кавалериста. Давно мы ее не слышали. Наверное, и лошади наши забыли про шенкеля, про то, с каким мелодичным звоном поют колесики-серебрушки в шпорах, и как, рассекая воздух, белой молнией сверкает и свистит казачья шашка. Мы давно спешились, стали обыкновенной пехотой, пластунами. В горах, в ущельях, здесь, в песчаных бурунах, нам пришлось ползать на пузе. Нами хорошо отработаны короткие и быстрые перебежки и мгновенные падения. Лопата стала такой привычной и так мы научились ею действовать, что можно подумать: всю жизнь были землекопами. Мы забыли кавалерийскую «жадность до клинков». Клинки наши, шашки, остро отточенные, сверкающие холодной синью, давно спят в ножнах.
И вот — «По ко-ням!» Пришел долгожданный час. В наступление перешла вся Северная группа войск Закавказского фронта, в которую мы входим. Мы гоним гитлеровцев, освобождаем родную землю. В душе — радость, может, такая же огромная, что и у наших друзей-сталинградцев. Позади хутора Ново-Средний, Мокрый, Вольный, Линевский, Терновский, Веселый, Богатый, Дмитриевский, Привольный, станицы Покровская, Развильная. Были хутора и станицы, теперь многих нет. От них остались только названия на столбах у бывших околиц, да и то на немецком языке.
Гитлеровцы огрызаются злобно. Отступая, они оставляют за собой безжизненную пустыню. Взрывают мосты и заводы. Минируют дороги. Сжигают скотные дворы и хаты. Займешь хутор или станицу, посмотришь вокруг — от боли и гнева сжимается сердце. Вместо хат — траурно-черные угли, серый пепел и белые печные трубы. Вместо садов — яблоневые и вишневые пеньки. На дрова вырубали сады. А колодцы забивали трупами людей, дохлыми собаками и кошками. Варварство!
Жителей в хуторах и станицах мы встречали совсем мало: одни, спасаясь от коричневой чумы, ушли летом с нашими войсками, другие, молодые женщины, девушки и ребята-подростки, — угнаны в Германию, третьи — старики, женщины, дети — убиты. Уничтожение мирного населения входило в планы немецко-фашистского командования. В одном из хуторов разведчики поймали поджигателя-факельщика, не успевшего удрать. Вывернув карманы фрица, обнаружили «памятку». В той «памятке» гитлеровцев наставляли: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки».
Из газет, из рассказов политработников казаки знали о зверствах и насилиях гитлеровцев на нашей земле. Но одно дело — читать или слушать и совсем другое — видеть своими собственными глазами их злодеяния. Сколько буду жить, наверное, никогда не забуду страшной картины, увиденной мною в хуторе Александровском, занятом нашим полком. Посередине улицы шла девушка. Одежды на ней никакой не было. Лишь на шее висел старенький платок, концами которого она прикрывала груди. Волосы растрепаны. На белом теле, на руках и ногах — желто-синие кровоподтеки. Девушка шла, никого не видя и не слыша. Она, казалось, не замечала даже холода и снега, по которому ступала босыми ногами. Нет, девушка не просто шла, она приплясывала. При этом громко смеялась и пела. Смех и песню перемежала нецензурной бранью.
По коже драл мороз. Одному из расчетов своей батареи я приказал остановить обезумевшую девушку и отвести в какую-нибудь хату. Батарейцы так и сделали. Вернувшись, они рассказали, что старики признали девушку. Люба оказалась их соседкой. Ей девятнадцать лет. Вечером перед своим бегством Любу схватили штабные офицеры, изнасиловали, а потом на потеху и поругание кинули солдатне.
В одном из хуторов старший лейтенант Ковтуненко нашел маленького заморыша и привел его в штаб к Михаилу Федоровичу Ниделевичу. Представил: Шурик Никитенко, двенадцати лет, круглый сирота. И стал рассказывать о найденыше.
— Въезжаю с разведчиками в хутор. Хаты горят, машины немецкие горят, поблизости рвутся снаряды. Кругом — ни единой живой души. Увидел вот этого хлопчика. Чумазый, грязный, оборванный. И худой — в чем только душа держится. Роется на пепелище. «Ты чего, хлопчик, ищешь?» — спрашиваю. «Картошку шукаю». — «А где, — спрашиваю, — батька твой?» — «Убили, — говорит, — фашисты. Увидели его с топором в руках, когда отец дрова рубил во дворе. Тут же и пристрелили. За топор в руках». — «А мамка где?» — «Умерла. У нее сердце болело. А я в степи сховался. Мамку потом закопали на огороде, в бомбовой воронке». — «И никого у тебя больше не осталось?» — «Сестра была. Но ее увезли в Германию». Брат, говорит, еще остался, старшой. Но он на войне, бьет фашистов.
Комиссар никак не мог взять в толк, почему Ковтуненко привел парнишку-сироту к нему, почему так подробно рассказывает о нем и что помощник начальника штаба хочет от комиссара.
— Шустрый мальчонка, — глаза Ковтуненко излучали теплоту и нежность, — я сразу заприметил, когда увидел его.
Комиссар не понимал.
— Яснее можешь?
С необычной робостью и тоской Ковтуненко проговорил:
— Михаил Федорович, он… на моего сына похож обличьем. — Голос Ковтуненко дрогнул, он трудно сглотнул.
— Что же ты хочешь, Корней?
— Пусть он станет моим сыном и сыном полка.
— Сыном полка? — Ниделевич задумался.
— Я понимаю, — торопливо заговорил Ковтуненко, — это опасно, очень опасно. Война — не детская забава, не игра в бирюльки.
— Понимаешь, зачем же тогда предлагаешь?
— Здесь он пропадает. А мы войдем на отдых, и я его пристрою. Может, в детский дом.
Ковтуненко, кажется, убедил комиссара. Тот перевел взгляд на мальчишку и произнес свое привычное «стало быть, так».
— Дяденька комиссар, — рвался мальчишка к Ниделевичу, — возьмите! Я в разведчики хочу. Я все знаю про фашистов!
Шурика Никитенко определили в музыкальный взвод. Только пробыл он во взводе всего два дня. А потом перебежал к полковым разведчикам. И долго боялся попасть на глаза комиссару.
Прошло совсем немного времени, как найденыш Корнея Ковтуненко, сын полка, стал воином.
Наступать безостановочно днем и ночью становилось все труднее. Сказывалась усталость и постоянное недосыпание. Спать нередко приходилось на ходу, на марше, в седле. Страшно мучил мороз. Он хоть и не велик был — минус десять, пятнадцать градусов, — но с сырым ветерком, пронизывающий до костей. Близкое знакомство с Генералом морозом на протяжении многих недель к добру не вело. Многие попростывали. Мечтали о теплой хате.