Портреты пером
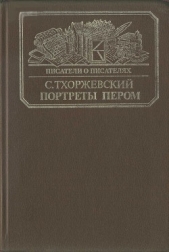
Портреты пером читать книгу онлайн
Художественно-документальные повести посвящены русским писателям — В. Г. Теплякову, А. П. Баласогло, Я. П. Полонскому. Оригинальные, самобытные поэты, они сыграли определенную роль в развитии русской культуры и общественного движения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В сентябре Бутенев уехал в Россию, в длительный отпуск, и задержался в Петербурге на всю зиму.
Тепляков напоминал о себе в письме к Попову: «А. П. Бутенев, находящийся теперь в Петербурге, не откажет, вероятно, подтвердить, может ли мое пребывание в Константинополе принести какую-нибудь пользу, при средствах, которыми я наделен, при положении, в которое я поставлен относительно миссии. При отъезде посланника я обо всем этом говорил с ним, а после, по его приказанию, изложил письменно сущность нашей беседы». Он просил Бутенева отправить его, хотя бы курьером, в Египет и Палестину…
О том же написал Родофиникину. Замечал: «…осмеливаюсь предполагать, что в глазах начальства по меньшей мере равно, здесь ли будет напрасно влачиться мое существование или посвятится оно, без новых со стороны министерства пожертвований, путешествиям, которые не могут, во всяком случае, остаться бесполезными».
«Когда покинете Константинополь, Вы, быть может, на возвратном пути завернете сюда… — писала ему из Одессы графиня Эдлинг. — Не изменяйте поэзии, она была Вашей верной подругой в счастье и в несчастье, и Вы не должны оставаться неблагодарны. Прощайте, мои добрые пожелания будут сопровождать Вас повсюду».
Что он мог ответить ей? Как было объяснить, почему нет у него новых стихов? Он ли изменил поэзии? Или это она покидает его здесь, в бесконечной маете ожидания?
Он записывал в дневнике (в марте 1838 года):
«Теперь я и сам едва узнаю в себе прежнего себя самого… Не то чтобы с годами и опытностью я сделался совершенным отступником Байрона… Я писал как жил, а жил совсем иначе, нежели какой-нибудь светский любезник или канцелярский дипломат… И не чистое ли сумасбродство все эти порывы к высокому и прекрасному, и не благоразумнее ли было бы примкнуть без дальних хлопот к той несметной фаланге нулей, которые множат значение какой-нибудь единицы…»
А ведь если разобраться, единственной безусловной единицей в государственной иерархии оказывался император Николай. При этой единице все министерство иностранных дел было фалангой нулей: Нессельроде, Родофиникин, Бутенев, Титов и так далее.
«Полуторагодовое прозябание в Цареграде посреди атомов, гнущихся и изгибающихся, бесцветных и пронырливых, холодных ко всему и гордых своим единым ничтожеством, заморозило вдосталь те мысли и ощущения, которые рвались некогда столь упорно наружу, — записывал в дневнике Тепляков. — …Что притом за страсть марать бумагу… Мы ничего не творим, мы только вспоминаем, говорит корифей древнего любомудрия.
Воспоминание есть, следовательно, единственный гений человека; может быть, потому-то и существует в нем страсть мыкаться пчелой по обширному божьему миру за медовой добычей под старость!»
Эта страсть жила в нем, не угасая, — он еще так много хотел бы увидеть и узнать! Чтобы впоследствии было что вспомнить — в книгах, которые напишет…
Но кто же этот корифей древнего любомудрия, чьи слова он привел в дневнике?
На память приходят «Диалоги» Платона, который считал, что истину мы только вспоминаем: она так же вечна, как душа, и уже открывалась душе прежде, в иной жизни, — он верил в переселение душ. В диалоге «Федр» отыскиваем приведенные Платоном слова Сократа: «…ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость — возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по его следам…»
В русском переводе «Диалоги» Платона тогда еще не издавались, и в древнегреческом тексте отдельные фразы Тепляков мог перевести и запомнить очень неточно. Так что, может быть, четкое определение («Мы ничего не творим, мы только вспоминаем») принадлежало уже ему самому.
Глава седьмая
Камень, который катится, мхом не обрастает, — говорит старая пословица, и она тысячекратно справедлива!
В те времена Египет, Сирия, Ливан и Палестина считались частью Оттоманской империи. Но только считались! На самом деле независимым их властителем был наместник султана в Египте Мехмед-Али. Этого человека называли в Европе вице-королем Египта. Он намерен был добиваться признания своей суверенности — и от султана Махмуда, и от европейских держав.
Неспокойно было в Сирии. Оказались достоверными слухи о восстании друзов — многочисленной мусульманской секты. На подавление восстания выступило войско Ибрагима-паши, сына Мехмеда-Али. Ожидалось неминуемое столкновение Ибрагима-паши с войском султана Махмуда на границе Сирии и Турции.
Оказывать поддержку султану считал нужным император Николай. Он чтил монархические принципы и видел в Мехмеде-Али, человеке неясного происхождения, самозванца, посягнувшего на права законного монарха. Николай полагал, что самозванца надо обуздать. Султан же пусть чувствует свою зависимость от поддержки со стороны Российской империи.
Граф Нессельроде сознавал, сколь недостаточны сведения, кои поступают в его министерство через посольство в Константинополе и генеральное консульство в Александрии. События на Ближнем Востоке его все более беспокоили. Какой оборот может принять ожидаемая война? Чью сторону примут сирийские и ливанские шейхи? Выступят ли друзы на стороне султана? Что можно ожидать от арабов-христиан — маронитов? И не будут ли потревожены святые места в Палестине, привлекающие паломников-христиан?
Скудность поступающих сведений объяснялась еще и тем, что на Ближнем Востоке снова появилась чума и порт в Яффе был закрыт.
Нужен был человек, который теперь поехал бы в Ливан и в Сирию. Поехал бы, несмотря на угрозу чумы и войны. Ведь, если ныне разразится война, посланец из России может стать жертвой воинствующих фанатиков — так же, как девять лет назад посланник Грибоедов в Тегеране…
И оказалось — подходящий человек есть. Он сам рвется на Ближний Восток, сам говорил об этом Бутеневу и писал Родофиникину. Пусть едет.
Из почты, полученной посольством в Буюк-Дере, Тепляков узнал новость: министерство решило удовлетворить его желание повидать Египет и Палестину и теперь посылает его курьером в Египет. Собственно, он будет не просто курьером, на него возлагается важная миссия, которая даст ему возможность совершить путешествие по Ливану и Сирии — к святым местам. Потом он сможет свободно располагать своим временем и не спешить с возвращением в Буюк-Дере (где ему, как известно, делать нечего). Он сможет еще совершить, по своему желанию, путешествие по Египту, от Каира вверх по Нилу, до развалин древних Фив или даже дальше.
Если б о таком решении министерства Тепляков узнал три месяца назад, он был бы счастлив, а сейчас он был только смущен. Конечно, отказываться не стал: немыслимо было отказываться, когда сам же просил послать его на Ближний Восток. Но в тот же день, 23 марта по старому стилю, на страницах дневника своего признавался себе, что уже и не жаждет этого трудного путешествия. О желании своем он говорил непроницаемому Бутеневу еще в декабре — «и что ж? — в то самое время, когда я почти отчаялся насчет его исполнения, — записывал он в дневнике, — последняя почта привезла приказание отправить меня курьером в Египет. Время года крайне неблагополучное для подобного странствия; усталость духа и плоти подбивают меня променять Восток на Север…»
Но он взял себя в руки.
Один день был потрачен на дорожные сборы, и уже 25 марта Тепляков поднялся на борт французского парохода «Рамзес». «Оставляю Константинополь без сожаления», — отметил он в дневнике.
Пароход шел сначала в Смирну, затем до острова Сира. Там предстояло пройти уже не пятидневный, а двенадцатидневный карантин, прежде чем разрешено будет перейти на борт другого парохода — до Александрии.
Вот уже «Рамзес» бросил якорь перед Сирой, пассажиров на шлюпках переправили на берег. «Здесь свирепствовали сильные ветры, поднимавшие громадные волны, от которых страдали жалкие прибрежные бараки, обычное прибежище несчастных путешественников», — вспоминал потом Тепляков. Однако на сей раз ему отвели хорошую комнату в доме карантинного начальства. И «двенадцать дней заключения на острове Сира прошли в размышлениях над бесцельностью в этой местности карантина вследствие ежедневных сообщений с соседними островами».

























