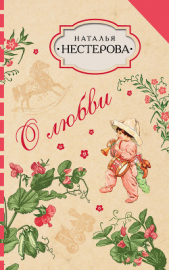О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
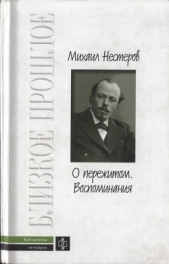
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тот год я проболел брюшным тифом, а потом, выздоравливая, поел неумеренно и захворал возвратным.
Я тогда жил на Среднем проспекте, на пятом этаже с моим приятелем, архитектором Павлом Поповым, очень способным, добрым и милым молодым человеком из хорошей московской семьи, который очень хорошо на меня влиял. Он через три года неожиданно умер после операции геморроя, в палате для заразных, куда его положили в Басманной больнице. С благодарным чувством я вспоминаю Пашу Попова.
Однажды по Эрмитажу долго ходил старый генерал-адъютант. По тому, как все служащие при нем подтягивались, как почтительно поздоровался с ним сам академик Тутукин, надо было полагать, что старик — важная птица. Медленно гуляя по залам, он подошел и ко мне. Долго смотрел копию, похвалил. Спросил, где я учусь, и у кого, и откуда родом. Узнав, что я из Уфы, оживился, задал несколько вопросов и, пожелав мне успеха, прошел дальше. На другой день П. В. Тутукин сообщил мне, что вчерашний важный генерал был [бывший] министр внутренних дел генерал-адъютант Тимашев, мой земляк-уфимец.
В ту зиму мы, копирующие в Эрмитаже по понедельникам, стали замечать в определенный час господина, проходящего по анфиладе зал от испанской до голландской. Господин был во фраке, походка его была «министерская» — важная, твердая, уверенная. С ним тоже все были особо почтительны. Господин проходил около меня близко, мельком оглядывал копию и копировщика и следовал дальше к окну последнего зала, где копировала что-то, как нам говорили, дочь американского посла. Там около нее господин во фраке оставался с полчаса и той же министерской походкой проходил обратно, и так до следующего понедельника.
Как-то я спросил П. В. Тутукина, что за важная персона проходит по понедельникам к «посланнице». Он мне сказал, что это Иван Николаевич Крамской, что он в этот день в Эрмитаже дает урок Великой Княгине Екатерине Михайловне. Так вот кто был господин с министерской походкой…
В один из последующих понедельников совершенно неожиданно Крамской по пути к «посланнице» свернул ко мне, поздоровался, спросил, где я занимаюсь, откуда, и, узнав, что я из Москвы и бывший ученик Перова, с особым вниманием стал меня расспрашивать об Училище, об Академии. Ему, видимо, понравился мой отзыв о покойном Перове. Он очень одобрил мою копию, сделал кое-какие замечания и, в заключение, пригласил бывать у него.
Вскоре я воспользовался приглашением и стал бывать у Ивана Николаевича с большой пользой для дела, до самой его смерти. В ту зиму знакомство с Крамским было самым знаменательным. Он мне посоветовал вернуться в Москву и там кончить школу, а что делать дальше — будет видно. Так я и сделал [72].
Однажды на вечеровом бродил я по коридору с сыном Крамского архитектором Николаем. Он поздоровался со встречным академистом, познакомил и меня с ним, назвав его Турыгиным. Мы пошли втроем.
Турыгин был плотный, коренастый, с длинными волосами, с едва пробивающейся рыжеватой бородкой юноша лет двадцати. Он деловито, солидно вступил в нашу беседу. С того дня я стал часто встречаться с этим неглупым малым. Оказалось, он бывает у Крамского, и мы однажды с ним там встретились, после чего через какое-то время Турыгин, по совету Крамского, предложил мне с ним заниматься живописью приватно. Это был мой первый и последний ученик. Позанимались мы недолго — недели две, едва ли больше. Оба поняли, что из такой учебы мало будет толку. Скоро подружились, перешли на «ты» и остались большими приятелями на всю жизнь. Переписка с Турыгиным продолжалась на протяжении более сорока лет [73].
Чтобы не возвращаться к нему, скажу о моем приятеле тут же все, что нужно сказать об этом умном, честном, странном или своеобычном человеке. Александр Андреевич Турыгин происходил из богатого петербургского купечества. Род их не очень давний, а родство именитое: Глазуновы, Елисеевы, Кудрявцевы, Сазиковы — все были в родстве с Турыгиными. Композитор Глазунов — его двоюродный брат.
Дед Турыгина, уроженец Онеги, промышлял лесом. Отец Александра Андреевича продолжал его дело. Мать Александра Андреевича вскоре по рождении его умерла, и отец женился вторично.
Отец Александра Андреевича не наследовал ни энергии, ни воли увеличивать родительские капиталы. Он ликвидировал дело и зажил богатым рантье. Сын его (мой Александр Андреевич) рос да рос, пристрастился к искусству, стал бывать у Крамского, тот направил его ко мне, и со мной в дружбе, в «особенной» дружбе, он прожил жизнь.
Много хорошего мы видели с ним, на его глазах проходила моя жизнь с успехами, удачами и неудачами. Не было у нас друг от друга ничего тайного. Как на духу, один перед другим, мы прошли свою жизнь. И я рад, что судьба в друзья мне послала Турыгина — честного, благородного, умного спутника, по своему медлительному флегматичному характеру совершенно противоположного моей вечной подвижности, неугомонности, сангвиничности. Турыгин десятки раз, бывало, говорил мне: «Куда ты, Нестеров, торопишься, посмотри на меня!» Я же на него не смотрел, а только поглядывал [74]…
Весной я взял свои бумаги и уехал в Уфу с тем, чтобы в Петербург, в Академию не возвращаться.
В Уфе все более и более недоумевали моим бесплодным блужданиям из Москвы в Питер и обратно. Одно для них было ясно, что дела мои идут плохо и дело вовсе не в Академии или Училище живописи, а во мне самом. Сам же я уперся в тупик и из него не мог выбраться, а между тем, малому был уже двадцать один год.
Уфа. Первая любовь
Таково было положение летом 1883 года.
Я пробовал найти себе занятие. Этюды не писались, все было не по душе… Завел дружбу с фотографом. Он охотно снимал меня в разных, более или менее «разбойничьих» видах и позах. Дух протеста неудачника — уфимского Карла Моора [75], в то время отразился на всех снимках моего приятеля-фотографа. Однако и это меня не удовлетворило.
И вот как-то была назначена в городском Ушаковском парке лотерея-аллегри. Разыгрывались, кроме вещей обычных, пожертвованных за ненадобностью купцами, разными дамами-благотворительницами, бурая корова, велосипед и еще что-то заманчивое. Скуки ради и я пошел в парк, и на лужайке, где продавались билеты, где была большая толпа жаждущих выиграть корову, вдруг остановил свой взор на двух незнакомых, не уфимских (уфимских-то я знал поголовно) барышнях.
Одна из барышень была небольшая полная блондинка, другая — высокая, стройная, темная шатенка. Обе они были одинаково одеты в тогда еще невиданные в Уфе малороссийские костюмы, суровые с вышивками, и в одинаковых широких, типа «директория», шляпах, черных, с красивыми шотландскими лентами, на них наколотыми. Они обе весело болтали, но держались особняком, не смешиваясь с провинциальной толпой. Сразу было видно, что барышни были или петербургские, или московские.
Мое внимание было всецело поглощено ими. И, как на беду, не у кого было спросить о них, разузнать что-нибудь. И я, позабыв о лотерее, обо всем, стал зорко высматривать незнакомок — так они мне нравились, особенно высокая. Когда мне удавалось стать поближе, смотря на нее, мне казалось, что я давно-давно, еще, быть может, до рождения, ее знал, видел. Такое близкое, милое что-то было в ней.
Лицо цветущее, румяное, немного загорелое, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые, нос небольшой, губы полные, но около них складка какая-то скорбная, даже тогда, когда лицо оживлено улыбкой очень особенной — наивной, доверчивой и простодушной… Голос приятный, очень женственный, особого какого-то тембра, колорита.
Словом, эта «высокая» не была похожа ни на кого из мне известных, тех, что мне нравились, и, быть может, только одно воспоминание детства совпало с тем, что я видел сейчас. Какое милое, неотразимое лицо, говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомок.