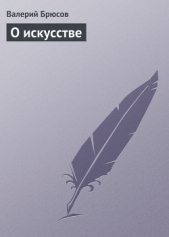Новеллы моей жизни. Том 1

Новеллы моей жизни. Том 1 читать книгу онлайн
В этой книге — как говорила сама Наталия Ильинична Caц — «нет вымысла. Это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей». Путешествие, очень похожее на какой-то фантастический триллер. Выдумать такую удивительную правду могла только сама жизнь.
С именем Н.И.Сац связано становление первого в мире театра для детей. В форме непринужденного рассказа, передающего атмосферу времени, автор рисует портреты выдающихся деятелей искусства, литературы и науки: К.Станиславского, Е.Вахтангова, А.Эйнштейна, А.Толстого, Н.Черкасова, К.Паустовского, Д.Шостаковича, Т.Хренникова, Д.Кабалевского и многих других.
Книга начинается воспоминаниями о детских и юношеских годах и завершается рассказом о работе в Алма-Атинском оперном театре в 1944 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В класс медленно вошла классная дама:
— Кто из вас является зачинщиком этого безобразия?
Молчание.
— Кто принес в класс церковное курево?
Мертвое молчание.
— Все понятно, — заключила Анна Петровна. — Мы устали от поведения шестого класса. — Лицо ее неожиданно перекосилось, и она крикнула: — Сац, Дьяконова, Нестеренко, немедленно к начальнице гимназии, а остальные приготовьте тетради, сейчас будет…
Мне уже было все равно, что сейчас будет в классе, я встала и пошла к двери. Сердце сжалось, руки и ноги похолодели, но я шла по коридору, потом по широкой лестнице, шла, чтобы никому не сказать ни слова. Безрадостные думы бились в голове: «Меня, конечно, исключат, снимут со стипендии. Как мы теперь будем жить? Выдавать других не могу. Знала, что глупо, и участвовала. За такое прощенья не будет. Что скажут маме?… Хорошо, что с четвертого этажа до первого так долго идти, если медленно… Когда объявят, самое главное — постараться не зареветь».
Уже второй этаж пройден, вот и большая торжественная дверь Марии Густавовны Брюхоненко. Ух как страшно ждать!
— Пусть что хотят с нами делают, только скорее, — произносит Лида.
Тик-так! Тик-так! — издеваются над тремя девочками, прижавшимися к стене, раззолоченные часы. У меня в голове идиотская мысль: «Надо сосчитать, сколько букв "Мария Густавовна Брюхоненко». Если чет, то может быть…»
Но что это? Сама начальница гимназии неожиданно выбегает из комнаты, глаза блуждают, за ней инспектор, учителя…
Мария Густавовна говорит, еле сдержизая волнение:
— Скорее все по домам! Бегите, не теряя ни минуты! Скажите всем: революция, на улицах неспокойно.
Мы переглядываемся с Соней и Лидой, обнимаем друг друга, целуемся, бежим вверх и кричим, захлебываясь от радости:
— Все по домам, скорее идите все по домам — революция! Ур-ра!
Мальчишки довольно рано начали обращать на меня внимание. Мне было лет тринадцать, когда хромой мальчик по имени Генрих письменно объяснился мне в любви (мама прочитала и сказала, что даже без ошибок).
Но я на мальчишек обращала «ноль внимания». Меня интересовали те, у кого я могла чему-нибудь научиться.
В гимназии это был Юрий Матвеевич Соколов (впоследствии профессор-фольклорист). Я им восхищалась потому, что он увлекательно нам рассказывал то, чего нигде не прочтешь, — о литературе, писателях, их творчестве, — а еще потому, что он разрешал нам писать сочинения на свободные темы. Мне было двенадцать лет, когда я написала «Чайковский — Тургенев — Достоевский — Скрябин». В этом сочинении я пыталась доказать, что первые два неотрывны от театра, а Достоевского надо самой читать, самой, одной, много думать, чтобы до конца его пенять, как и музыку Скрябина.
Юрий Матвеевич написал на полях моей работы, что глубокий драматизм творений Достоевского, наоборот, очень роднит его с театром, поставил мне четыре с плюсом, но похвалил за то, что много читаю, слушаю, думаю и хочу сама разобраться.
Кумиром моего подросткового состояния был Виктор Львович Кубацкий, учивший меня играть на виолончели.
На его вопрос, сколько мне лет, я ответила: «Будет четырнадцать», хотя мне тогда было двенадцать. Он засмеялся и сказал, что спрашивает, сколько мне сейчас лет, а «будет» это не ответ — и ему когда-то будет пятьдесят. Тогда ему было двадцать шесть, был он кареглаз, со светло-золотистыми волосами, по моему мнению — красавец.
Он часто выступал с трио, квартетом, соло, и спасибо этому увлечению — оно помогло мне уже тогда довольно хорошо узнать камерный репертуар.
Но, пожалуй, самым большим кумиром был руководитель нашей Грибоедовской студии — Николай Павлович Кудрявцев, очень талантливый артист Московского Художественного театра.
Его исполнением роли Лариводьера в музыкальной комедии «Дочь Анго», поставленной Вл. И. Немировичем-Данченко, восхищался сам Федор Иванович Шаляпин, который специально пришел к нему за кулисы, чтобы сказать об этом.
Четыре года систематических занятий сценическим мастерством с Николаем Павловичем дали мне бесконечно много. Он называл меня своей самой любимой ученицей.
А мальчишек я довольно рано научилась превращать в своих добавочных учителей. Один был куда сильнее меня в геометрии, другой учился в консерватории и с ним полезно было поиграть в четыре руки, третий знал французский, которого я не знала. Переведя их с ухаживания на «новые рельсы», я все больше обрастала новыми учителями. Самое мое любимое!
Чем больше я росла, тем яснее понимала, какие удивительные сюрпризы можно найти в людях, что они все разные и что в каждом скрыто что-то очень хорошее и интересное.
Тола Серафимович
Юношеская группа курсов драмы С. В. Халютиной превратилась в самостоятельную драматическую студию. После того как мы успешно поставили «Горе от ума», она стала называться «Драматическая студия имени А. С. Грибоедова». Там преподавали знаменитые режиссеры и артисты Художественного театра, но самым моим любимым по-прежнему был Николай Павлович Кудрявцев. Он и сценическому мастерству серьезно и вдохновенно нас учил, и режиссерские навыки прививал, и нами сделанное анализировать умел замечательно.
Я уже сыграла Юлию в «Двух веронцах» Шекспира, много других ролей, но особенно любила сама превращать в пьесы рассказы и даже романы и ставить их тоже сама, конечно, под руководством Николая Павловича Кудрявцева.
Любила я и читать стихи. Бальмонт, Белый, Блок, Северянин — вот тогда был наш репертуар. Дети своего времени — никуда от этого не денешься.
После Февральской революции занятия в гимназии и Музыкальном институте были прерваны, зато в Грибоедовской студии мы «творили с утра до ночи».
К нам туда стал часто приходить сын писателя А. С. Серафимовича — Тола. Настоящая фамилия его была Попов, но нам было приятно, что он сын известного писателя, и мы чаще называли его Тола Серафимович, хотя сам себя он называл только Тола Попов.
Он был красивый, высокий, но какой-то слишком ясный, с очень розовым цветом лица и правильными чертами, чтобы понравиться девчонкам, — они предпочитали бледных и «загадочных». Ну а во мне тоже ничего загадочного не было — я выглядела старше своих лет, потому что была толстая и краснощекая. В общем, мы подружились. Он был старше меня не только годами (ему было уже восемнадцать), но всем своим развитием. Когда Тола говорил, я диву давалась: откуда он столько знает! Не об искусстве — там я была сильнее его, — о жизни. Политически я была в то время совершенно безграмотна. Знала, что царя свергли, что после Февральской революции у власти Временное правительство, что есть разные политические партии, видела, как некоторые из маминых родственников косились на нее за то, что она пошла работать в комитет большевиков. Я как-то мало задумывалась над этим, а Тола — совсем другое дело. Он ясно знал, что к чему.
Жил он тоже где-то на Пресне, во всяком случае, домой из студии мы всегда возвращались вместе. Я очень ценила, что он со мной разговаривал как с равной, хотя для «самоутверждения» подчас и пыталась с ним спорить.
Помню, как-то идем из студии вечером, я ему рассказываю:
— Сегодня у нас был доклад о разных партиях. Докладчик очень хороший. Он совершенно объективно объяснил, что во взглядах каждой партии хорошо и что плохо.
Тола возмутился:
— Совершенно объективно о всех партиях может говорить только человек, у которого нет никаких своих взглядов! А человек без своих убеждений вообще не человек. Вот я, например, большевик и твердо уверен, что правы только большевики, и хочу, чтобы все, кому я верю, так же думали. Как же может быть иначе? Между прочим, ты живешь напротив нашего комитета, в Большом Предтеченском, и могла бы помочь нам концерты устраивать, читки на Прохоровке с рабочими проводить…
Эта работа не была большой, но она заставила зазвучать в сердце какие-то новые струны. «Для начала» Тола привел меня в комитет партии большевиков — он помещался в одноэтажном сером домике наискосок от нашего дома. Там стояло красное знамя, на стене большими буквами было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Все это для меня было ново. Тут была какая-то особая тишина, собранность, говорили вполголоса, только о чем-то важном, называли друг друга «товарищ», главные посетители — рабочие. Толу там знали и уважали.