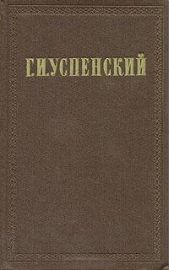Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография

Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография читать книгу онлайн
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой философскую автобиографию Карла Раймунда Поппера (1902–1994), — крупнейшего философа науки и социального мыслителя XX века. Повествование автора об особенностях его интеллектуального становления и философской эволюции разворачивается на фоне масштабных событий XX века — первой мировой войны, межвоенного лихолетья 1920–1930 годов, вынужденной эмиграции и годов скитаний. Автор приоткрывает перед читателем вход в лабораторию своей мысли, показывает рождение своих главных философских концепций и идей через призму споров с коллегами, друзьями и оппонентами. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юлиус Крафт, как и Леонард Нельсон, был не-маркистским социалистом, и обычно половина наших дискуссий, часто продолжавшихся до утренней зари, велась вокруг критики Маркса. Другая половина была о теории познания: в основном о так называемой «трансцендентальной дедукции» Канта (которая вызывала у меня много вопросов), его решениях антиномий и о книге Нельсона «Невозможность теории познания» [98]. По этим вопросам мы яростно спорили с 1926 по 1956 год, пока не пришли к чему-то, напоминающему согласие, лишь за несколько лет до его безвременной кончины в 1960 году. По марксизму мы достигли согласия довольно скоро.
Генрих Гомперц всегда был со мною терпелив. Он имел репутацию едкого и ироничного человека, но я ничего такого не замечал. Однако он был очень остроумным, когда рассказывал что-нибудь о своих знаменитых коллегах, например о Брентано или Махе. Время от времени он приглашал меня к себе домой и давал мне выговориться. Обычно я вручал ему для прочтения свои рукописные отрывки, но он их почти не комментировал. Он никогда не критиковал то, что я говорил, но очень часто обращал мое внимание на родственные точки зрения, на книги и статьи, связанные с моей собственной темой. Он никогда не показывал мне, что считает важным то, что я говорю, до того времени, пока я несколько лет спустя не вручил ему рукопись моей первой книги (все еще неопубликованной, см. ниже главу 16). Тогда (в декабре 1932 года) он написал мне очень сочувственное письмо — первое из тех, что я получал затем по поводу написанного мной.
Я прочитал все его работы, выдающиеся по своему историческому подходу: он мог проследить историческую проблему со всеми ее превратностями от Гераклита до Гуссерля и (во всяком случае, в разговорах) Отто Вейнингера, которого он знал лично и считал почти гением. Мы не сходились на предмет психоанализа. В то время он верил в него и даже писал для журнала Imago.
Проблемы, которые я обсуждал с Гомперцем, относились к области психологии знания или открытия; именно в этот период я менял эту область на область логики открытия. Я стал все острее реагировать на всякий «психологический» подход, включая психологизм Гомперца.
Гомперц и сам критиковал психологизм — только для того, чтобы снова впасть в него». Именно в беседах с ним, главным образом, я стал подчеркивать свой реализм, мое убеждение в том, что существует реальный мир и что проблема знания — это проблема способов открытия этого мира. Я пришел к убеждению, что если мы хотим говорить о нем, то мы не можем начинать с нашего сенсорного опыта (или с чувств, как того требовала его теория), не попадая в ловушку психологизма, идеализма, позитивизма, феноменализма и даже солипсизма — всех этих взглядов, которые я отказывался принимать всерьез. Мое чувство социальной ответственности подсказывало мне, что принятие таких проблем всерьез означало со стороны интеллектуала предательство и пустую трату времени, которое мы должны посвятить решению реальных проблем. [99]
Поскольку у меня был доступ в психологическую лабораторию, я провел несколько экспериментов, которые убедили меня, что сенсорные данные, «простые» идеи и впечатления и другие такие вещи не существуют: они были фикциями — изобретениями, основанными на ошибочной попытке транслировать атомизм (или аристотелевскую логику — см. ниже) из физики в психологию. Сторонники гештальт-психологии придерживались сходных критических взглядов, но я чувствовал, что их воззрения недостаточно радикальны. Я обнаружил, что мои взгляды сходны со взглядами Освальда Кюльпе и его школы (Wurzburger Schule), в особенности Бюхлера [100] и Отто Зельца. [101] Они открыли, что мы мыслим не образами, а в терминах проблем и их пробных решений. Возможно, обнаружение того, что мои результаты были предвосхищены, в особенности Отто Зельцем, стало одной из не очень значимых причин того, что я отошел от психологии.
Отказ от психологии открытия и мышления, которой я посвятил годы, был длительным процессом, высшая точка которого выразилась в следующем озарении. Я обнаружил, что психология ассоциаций — психология Локка, Беркли и Юма — была просто трансляцией аристотелевской субъектно-предикатной логики в психологические термины.
Аристотелевская логика имеет дело с утверждениями типа «люди смертны». Здесь имеются два термина и «копула», которая связывает или ассоциирует их друг с другом. Переведите это в психологические термины и вы получите, что мышление состоит в «ассоциировании» «идей» человека и смертности. Стоит только почитать Локка с этой идеей в голове, и вы увидите, как это происходит: его основной предпосылкой является состоятельность аристотелевской логики, которая используется для описания нашего субъективного, психологического мыслительного процесса. Но субъект-предикатная логика — это очень примитивная вещь. (Ее можно рассматривать как интерпретацию маленького фрагмента Булевой алгебры, неряшливо смешанной с маленьким фрагментом наивной теории множеств.) Невероятно, что кто-то все еще может воспринимать ее как эмпирическую психологию.
Следующий шаг показал мне, что механизм трансляции сомнительной логической доктрины в доктрину якобы эмпирической психологии все еще работает и таит в себе опасности даже для таких выдающихся мыслителей, как Бюхлер. Потому что в «Логике» [102] Кюльпе, которую Бюлер принимал и высоко ценил, аргументы рассматривались как сложные суждения (что неверно с точки зрения современной науки) [103]. Как следствие, не могло быть реального различия между суждением и обоснованием. Как дальнейшее следствие, дескриптивная функция языка (которая соответствует «суждениям») и аргументативная функция оказываются одним и тем же; поэтому Бюхлер не смог увидеть то, что их можно так же четко разделить, как и те три функции языка, которые он уже выделил.
Экспрессивную функцию Бюхлера можно отделить от коммуникативной (или сигнальной, или пусковой) функции, потому что животное или человек могут выражать себя даже при отсутствии «приемника» стимула. Экспрессивную и коммуникативную функции в совокупности можно отличить от дескриптивной функции Бюхлера, потому что человек или животное могут передавать (например) страх, не описывая устрашающего объекта. Дескриптивная функция (высшая функция, по Бюхлеру, и свойственная только человеку), как я затем обнаружил, ясно отличима от аргументативной функции, так как существуют языки, — такие, как географические карты, — которые дескриптивны, но не аргументативны [104]. (Это, кстати, делает знакомую аналогию между географическими картами и научными теориями неудачной. Теории являются по существу аргументативными системами суждений: их главная цель состоит в дедуктивном объяснении. Карты не аргументативны. Конечно, всякая теория еще и дескриптивна, как географическая карта, — точно так же, как любой дескриптивный язык коммуникативен, поскольку побуждает людей действовать, а также экспрессивен, поскольку является симптомом «состояния» коммуникатора — коммуникатора, который может быть и компьютером.) Таким образом, это был второй случай, когда ошибка в логике привела к ошибке в психологии, в этом частном случае, психологии лингвистических предрасположений и внутренних и внешних биологических потребностей, которые лежат в основе применения и достижений человеческого языка.
Все это открыло мне приоритет изучения логики над изучением субъективных процессов мышления. И это же заставило меня относиться с крайним подозрением ко многим психологическим теориям, принятым в то время. Например, я пришел к пониманию того, что теория условного рефлекса была ошибочной. Не существует такой вещи, как условный рефлекс. Поведение собак Павлова следовало бы интерпретировать как поиск инвариантов в области добывания еды (области по сути своей очень «пластичной», то есть открытой для исследования методом проб и ошибок) и производство ожиданий или предвосхищений грядущих событий. Можно назвать этот поиск «условным», но в результате процесса обучения формируется не рефлекс, а происходит открытие (быть может, ошибочное) того, чего следует ожидать [105]. Таким образом, даже на первый взгляд эмпирические результаты Павлова, как и рефлексология Бехтерева [106] и большинство современных теорий обучения, оказались в этом свете ошибочной интерпретацией их собственных результатов под влиянием аристотелевской логики; потому что рефлексология и теория условного поведения являются просто трансляцией психологии ассоциаций в термины неврологии.