Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
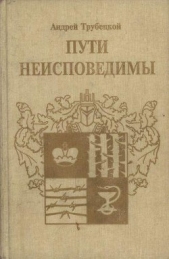
Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Немцы заигрывали с литовцами и давали им большую волю, а литовцы теснили все русское, в том числе, и православную церковь. Как глубоко верующий человек, которому были близки интересы православной церкви в Литве, Михаил Григорьевич взялся представлять ее интересы перед властями. Вот, что представляло собой положение дяди к моменту, когда он вытащил меня из плена.
Итак, я стал жить в имении. Все мне казалось очень странным. Был плен и перспектива медленного а, возможно, и быстрого умирания в лагере в обстановке голода, унижения, бесправия, и вот теперь вольготная сытая жизнь под крылышком помещика, графа, пользовавшегося уважением окружающих и властей, жизнь, где бояться нечего, где можно делать, что хочешь. Так, по крайней мере, я думал вначале. Действительно, первое время я ел, спал, гулял. Да это мне и было необходимо. Потом, когда я оправился и окреп, дядя Поля говорил, что вид у меня был такой, что у женщин я не мог возбудить никакого другого чувства, кроме жалости.
Жившие в имении относились ко мне с большим уважением: племянник всеми почитаемого графа, да еще сам князь, да из немецкого плена, да после тяжелого ранения. Но чувствовал я себя в этой обстановке не совсем в своей — тарелке. Ведь всю жизнь из Меня выбивали чувство принадлежности к дворянскому сословию. Постепенно вырабатывалось ощущение, что это несмываемое, опасное клеймо, как черная кожа в давней Америке. Такое происхождение сулило лишь беды, унижения и уж, во всяком случае, большие неприятности. В сознании так и осталось, что родители «лишенцы», что меня не приняли в восьмой класс «ввиду социально чуждого происхождения» (а я так хотел учиться! И отцу стоило многих и долгих хлопот, чтобы все же приняли), а 1937 год? Несмотря на все это, я не отряхивал прах земля родной со своих ног, и люди из моего ближайшего окружения, вероятно, стали это постепенно чувствовать. Это сказалось и на моих тогдашних знакомствах.
По соседству в дединце жило несколько семей, которые в прежние времена назвали бы, пожалуй, дворней садовник Юшкевич, прозванный за усы «батькой Сталиным», на что он очень обижался. Жил он с женой и двумя детьми-подростками. Его старшая дочь Марыля работала медсестрой в Новогрудке, иногда бывая в Щорсах. Рядом с Юшкевичами — столяр Яроцкий, невероятно словоохотливый человек, затем кузнец старик Малой с такой же старой и молчаливой женой. Кузнец и столяр сильно не ладили между собой. Жил там сторож Лавникевич (его почему-то не любил дядя Поля) с семейством. Старший сын сторожа был механиком и недавно женился на «восточнице» [9] Дусе, беженке, которая с началом войны пробиралась на восток к своим куда-то в Воронеж, да так и осела в Щорсах, найдя там свое семейное счастье. Жил там конюх, личность ничем не примечательная. Было там еще семейство Бузюк. Он — маленький шатен с висячим носом, она крупнее его, тип провинциальной красавицы, жгучая брюнетка. Оба не первой молодости. Были у них: дочь Галя в маму и сынишка в папу. Галя мне поначалу приглянулась, но когда я почувствовал, что приглянулся ей раньше — вот ведь как устроен человек, — интерес мой к ней пропал. Родители Гали всегда приглашали меня на семейные и календарные праздненства, где папа залихватски играл на гитаре, слабенько подпевая. Няня Анна Михайловна, относившаяся ко мне удивительно сердечно и по-родственному, всегда повторяла, чтобы с Галей не оставался с глазу на глаз и держался от нее подальше, «а то вон она какая нахальная». Бузюки были учителями маленькой школы в две комнаты, располагавшейся тут же.
В мурованке тоже жило несколько семей: сыровар Мефодий Сачко (няня произносила «Сачок»), Там же жил старик Гинц, что-то вроде старшины всех этих людей, худой, высокий и властный поляк. Его сына Колю я сразу запомнил по разговору, слышанному в первый день. Он советовался с Даниловым, как лучше «раскулачивать» трактор, брошенный в поле отступавшими частями. Потом я его часто видел удящим рыбу на Немане.
В деревне Щорсы дядя познакомил меня с семейством местного священника, где мы встречали Новый, 1942 год. В семье был сынишка и две дочки. В числе гостей был глава местного полицейского поста — белорус. Когда часы пробили двенадцать, а компания была уже навеселе, полицай вынул пистолет, сунул его в форточку и, как ни просил дядя Поля: не надо стрелять, пусть этот год будет без выстрелов, выпалил несколько раз в воздух. Дядя был очень недоволен. Потом мы с младшим Малишевским не раз захаживали в дом священника, где нас привлекали веселые поповны. Младший Малишевский был моим тезкой. Кто-то так нас назвал, и мы стали так звать друг Друга, а за нами и все остальные. Няня, которая поддерживала в себе аристократический снобизм с оттенком шовинизма — она не любила семейство Малишевских — не раз говорила мне: «Что это вы позволяете им так себя называть?» Мне это было все равно, а «им», по-видимому, импонировало: племянник графа, сам князь и тезка.
В деревнях Болотце и Щорсы, расположенных довольно близко друг от друга, жило человек пять отпущенных пленных. Костя, украинец, обитавший в имении, быстро меня с ними познакомил. Особенно близко я сошелся с двумя молодыми людьми, жившими в Болотце: Михаилом, бывшим санинструктором, и Василием. Первый — общительный, симпатичный — был родом откуда-то из южных областей. Он жил у крестьян Кореневских в «примах». Так в Белорусии называли молодых мужей, переходивших жить в семью жены. Их дом был на редкость гостеприимным. В длинные зимние вечера там собиралась деревенская молодежь на посиделки или «на кудельку». Девчата приходили с мотками кудели, прялками, садились у стенок на длинные скамейки, крутя в пальцах веретено, нажимая ногой на педаль столь же древней, но более совершенной прялки. Кто-нибудь из парней приносил скрипку (гармошка была не в моде), и вечер шел весело и незаметно. Миша все подбивал меня идти в «примы» и через свою жену даже подыскал невесту — девицу пригожую, с хорошим хозяйством. Но в «примы» идти мне что-то не хотелось.
Василий, с которым я также близко сошелся, в плену не был (жаль, что не помню его фамилию). Перед войной он служил в Бресте, в крепости.
Рассказывал про бои за эту крепость. Как он оттуда выбрался, не помню. Двигался на восток своим ходом и на зиму остановился в Болотце, где поселился у бедной пожилой вдовы. Она, одна из немногих, добрым словом вспоминала колхоз, который ей хорошо помогал. В армию Василий был призван с первого курса университета или пединститута в Ленинграде. Язык у него был подвешен хорошо. Он где-то научился гадать на картах и прослыл местным ворожеем; давал в своих гаданиях самые общие ответы, которые потом можно было толковать как заранее подтверждающие ход событий. Недостатка в клиентках не было, тем более, что немцы мобилизовали многих местных крестьян возить военные грузы где-то за Смоленском. Жены печалились, их беспокоила судьба мужей. В качестве оплаты Василий получал плоды трудов крестьянских от еды до кожаных лаптей и домотканной одежды — хозяйство тогда велось натуральное.
Василий хорошо играл в шахматы, и я часто приглашал его к себе. Играл он в шахматы и с дядей Полей, которому Вася не понравился своей самоуверенностью. Он, действительно, был самоуверен, и это его погубило.
Как-то так получилось, что ко мне стали приходить все пленные, и мой тезка — Малишевский, который неплохо рисовал, сделал что-то вроде дружеского шаржа под названием: «Тезка принимает Красную Армию» — мы с Василием играем в шахматы, а кругом сидят и стоят несколько пленных. Однажды дядя Поля сказал, что полиция выразила недовольство этими сборищами и, что, по его мнению, лучше этого не делать. Слова дяди подтвердил и Данилов. Я был вынужден больше не приглашать к себе никого.
Василий вел себя в деревне очень неосторожно, хотя был неглупым парнем. Он открыто выражал свою ненависть к немцам, издевался над полицией. Все это говорилось не только в кругу военнопленных, но и на посиделках и кончилось для него плохо. Весной в Болотце приехали двое полицейских, вошли в дом к вдове, спросили, где Василий. Он был в огороде. Полицейские подошли к нему и без всяких слов застрелили. Так трагически и глупо кончилась его жизнь.
























