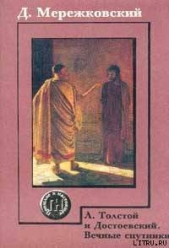Достоевский
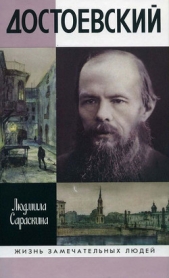
Достоевский читать книгу онлайн
"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Непринужденный, благородный тон, царивший в салоне графини, ее нежное и чуткое сердце привлекали многих выдающихся людей. «Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, — вспоминала А. Г., — который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин». В салоне Толстой часто можно было встретить Вл. Соловьева, питавшего нежные чувства к любимой племяннице графини, жившей при тетушке отдельно от мужа, дипломата М. А. Хитрово. «Ф. М. любил посещать графиню С. А. Толстую, — писала А. Г., — еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, Софья Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина и трое ее детей: два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича». (Ходили слухи, что С. П. Хитрово была не племянницей графини, дочерью ее убитого на дуэли брата, а ее собственной дочерью — плодом любовной связи Софи Бахметевой с князем Г. Н. Вяземским, не пожелавшим жениться на соблазненной девушке.)
Атмосфера радостного детства, ласковое дружелюбие, романтический настрой, сами гости графини, среди которых были и дамы высшего общества, успокаивали и умиротворяли писателя. «Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу». Анна Григорьевна с видимым удовольствием называла лиц, посещавших дом на Шпалерной: фрейлину при дворе великой княгини Александры Иосифовны (вдовы великого князя Константина Николаевича и матери поэта К. Р.) графиню А. Е. Комаровскую; супругу министра финансов А. А. Абазы певицу и музыкантшу Ю. Ф. Абаза; певицу Е. А. Лавровскую; двоюродную тетку Л. Н. Толстого графиню А. А. Толстую; известную благотворительницу графиню Е. Н. Гейден; дочь поэта Д. В. Давыдова переводчицу Ю. Д. Засецкую. Анна Григорьевна считала этих дам искренними друзьями писателя — они охотно поверяли ему свои тайны, видели в нем опытного советчика. «Ф. М. с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Ф. М.».
Благодаря успеху «Карамазовых» симпатии общества к автору романа чрезвычайно выросли; в нем стали видеть непременного участника балов, концертов, благотворительных вечеров. Ф. М. писал сам или поручал жене составлять отказы, а порой и направлял ее вместо себя на праздник, так что, проскучав положенное время, Анна Григорьевна уходила, извиняясь за мужа, который, по случаю спешной работы, так и не смог быть на вечере.
Свое литературное положение в момент работы над «Карамазовыми» Достоевский считал почти феноменальным. «Как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки “Бесами”, то есть ретроградством и обскурантизмом, — как этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот этою самою расшатанной молодежью, нигилятиной и проч.?» Ф. М. задавал этот вопрос Победоносцеву, с которым в период создания «Карамазовых» много общался и от которого хотел, быть может, получить ответ и на это «как». К. П., слыша жалобы писателя на хандру, советовал:
«Только не раздражайте себя мыслию о смерти, в том смысле, как Вы пишете. Посудите Вы сами, когда жизнь исполнена такой нравственной тяготы и когда смерть висит над человеком, стоит ли болезненно вглядываться в эту мысль»40.
Сто'ит, полагал Достоевский. «Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!) — а между тем измучен желанием продолжать бы “Дневник”, ибо есть, действительно имею, что сказать — и именно как Вы бы желали — без бесплодной, общеколейной полемики, а твердым небоящимся словом». И Победоносцев будто подзадоривал писателя:
«А как много и хорошо можно бы писать теперь; но для этого надо снять с себя истасканный, грязный плащ русской полемики: так все измельчено, так все опошлилось в ее приемах»41.
Таких одежд, истасканных и грязных, Ф. М. не носил никогда и теперь тоже готов был броситься в самое пекло общественной полемики со своим «твердым небоящимся словом» наперевес — ведь именно этого шага и ждала от него молодежь, обращаясь к писателю «из многих мест, единичными заявлениями и целыми корпорациями». «Они объявили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим руководящим писателем. Эти заявления молодежи известны нашим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам печати, и они очень этим поражены, не то дали бы они мне писать свободно!»
Кажется, Ф. М. давал понять Победоносцеву, что от «разбойников пера и мошенников печати» его, автора «Бесов», спасает не заступничество великих князей или дам высшего света (в чем, впрочем, не было бы ничего зазорного), а решительное слово читательской молодежи «из многих мест». В таком случае это была декларация независимости и осознание неуязвимости: ведь не будь этой молодежи, разбойники и мошенники «заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблюдают, что дальше выйдет».
А дальше — в течение двадцати трех месяцев триумфально «выходили» «Братья Карамазовы», заняв собою 16 номеров
«Русского вестника». Достоевский не скупился на толкования — объяснял, кто именно убил старика Карамазова, трактовал характер Мити: «Он очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет — мужик не перекрестится».
Пресса — даже самая злая — попритихла. Газеты, привыкшие обличать, вежливо сдерживались, а то и переходили на сторону писателя. «Новое время» (1879, 14 сентября) даже защищало Достоевского от двух главных обвинений: в избытке «лампадного масла» и в засилье «психиатрической истерики». Впрочем, по мнению большинства критиков, Достоевский вместе со своими героями все же оставался в плену туманного мистицизма — но теперь это ему почти прощали. То, что читатели называли христианской гуманностью, критики именовали мрачной мистикой: «скитом и склепом пахнут рисуемые им образы, сцены и картины», — писал критик «Молвы» Скабичевский, но тут же обнаруживал в романе глубокое человеколюбие, щедро разлитое в назидательных беседах персонажей.
«Мы хотим знать, — вопрошал критик, — где эти старцы, уясняющие себе в своем уединении великие мировые вопросы современности, где эти юноши, способные просветительно влиять на мир с таким скудным запасом идей?.. Чудо чудом, а за правдой жизни остаются ее неотъемлемые права. Этой правды мало в романах Достоевского. Он заменяет ее собственной мистической правдой, собственной фантазией».
«Мистическое», на языке русской критики конца 1870-х, было чем-то вроде алхимии, и ярлык «мистика» приклеивался к уличенному в мистике литератору, как правило, навсегда. Но выходили в свет новые главы «Карамазовых», и «мистицизмофобы» сдавались: им вдруг открывались жгучие «злобы» русской действительности. Становилось ясно — этот странный роман во много раз современнее самых модных сочинений, а его автор — честный и глубокий художник, «ударяющий по сердцам с неведомой силой».
Роман побеждал самых упрямых — и они прощали автору его «мистику» во имя «поэзии сердца». «Русская речь» (1879, 30 декабря) заявляла: «Не иночество, не церковность приветствуем мы как новую струю в романе Достоевского. Мы приветствуем в нем светлый взгляд на душу человеческую, жаркую веру в нравственные силы человека, такую крепкую веру, которая... спокойно проводит среди беснующегося хаоса стихий свой маленький священный ковчег, где бьется чистое сердце и живут высокие помыслы, откуда с надеждою можно глядеть в черные тучи, отыскивая в них ободряющую радугу будущего».