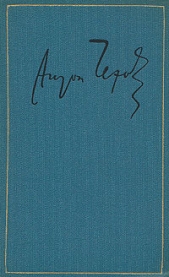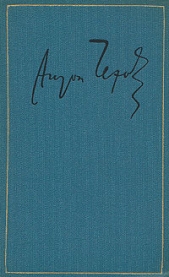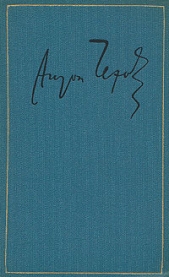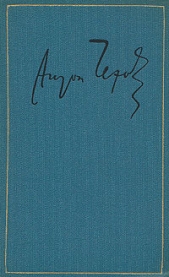Чехов. Жизнь «отдельного человека»
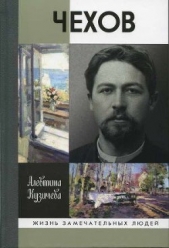
Чехов. Жизнь «отдельного человека» читать книгу онлайн
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало собой наивысший подъем русской классической литературы, став ее «визитной карточкой» для всего мира. Главная причина этого — новизна чеховских произведений, где за внешней обыденностью сюжета скрывается глубинный драматизм человеческих отношений и характеров. Интерес к личности Чехова, определившей своеобразие его творческого метода, огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его биографии. Самая полная из них на сегодняшний день — капитальное исследование известного литературоведа А. П. Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его личную жизнь, историю создания его произведений. Книга, выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова, рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Себе Чехов в шутку еще в молодые годы пророчил материальное благополучие, высокое положение, литературную известность при жизни и после смерти, женитьбу на богатой, семью, детей, внуков, хлопотливую старость. Шутки и предсказания насчет женитьбы и семейной жизни занимали особое место в этих «мечтаниях». Чехов говорил в былые годы, что боится семейных порядков, которые стеснят его, а в роли мужа усматривал «что-то суровое, как в роли полководца». Еще в 1889 году предполагал жениться на «актрисочке», а жить с ней — в имении в Крыму. Шутил не раз, что вдову его обеспечит доход с постановок пьес и переизданий прозы.
Шутки и пророчества 1901 года касались отпущенного земного срока. В Москве осенью Чехов опять побывал у Шуровского, чтобы рассказать о лечении кумысом, которое не помогло. В истории болезни этот визит отметила лишь запись, что Чехов поправился на десять фунтов. И всё. Более — никаких предписаний, и о Швейцарии — ни слова. Но один совет докторов Чехов упоминал — ничего не писать, не работать еще месяцев восемь или девять. По крайней мере, а может быть, и более. Он лучше врачей знал, что напряженная работа может кончиться кровотечением, как это происходило в последние годы. Признание семилетней давности — «трудно совокупить желание жить с желанием писать», теперь, судя по письмам, обретало иной смысл. Тогда, в 1894 году, под «жить» подразумевались новые впечатления, поездки, знакомства, романы с женщинами, круговорот дел. Ныне — та работа, которая давала ощущение новизны, требовала уже огромных физических и душевных затрат. Она стоила дорого. Так что «совокупление» сокращало жизнь. Тогда «жить» отнимало время и силы, необходимые на «писать». Теперь «писать» отнимало силы на «жить».
Тогда, в московские и мелиховские годы, Чехов говорил о желанном одиночестве, то есть о душевном покое, важном для сосредоточенной работы. Ныне одиночество, лишенное желания писать, превращалось в одинокость, в пустоту. Безлюдье, наверно, страшило не менее, чем многолюдство, гости, визитеры, звонки.
Не работать означало просто влачить время.
Дни в Москве проходили то в театре, то в визитах. Но уже через неделю после приезда Чехов заговорил о поездке в Петербург дня на два, а через десять дней — о возвращении в Ялту. В разговорах с актерами он чуть-чуть приоткрыл какой-то новый сюжет. Говорил о ветке цветущей вишни, о безденежной хозяйке имения, упоминал бильярд. 19 октября Чехов написал Миролюбову, которому был обещан рассказ «Архиерей»: «В настоящее время я в Москве, на будущей же неделе, вероятно в среду, уезжаю в Ялту, где пробуду безвыездно всю зиму. И буду всю зиму работать. Простите, голубчик, я не выслал Вам до сих пор рассказа. Это оттого, что я прервал работу, а прерванное мне всегда было трудно оканчивать. Вот приеду домой, начну сначала и вышлю, будьте покойны! <…> Жена моя, к которой я привык и привязался, остается в Москве одна, и я уезжаю одиноким. Она плачет, я ей не велю бросать театр. Одним словом, катавасия».
В первых же письмах из Ялты он рассказывал, что «совсем, с головой вошел в свою колею, и пустую и скучную», что постель кажется ему «одинокой», точно он «скупой холостяк, злой и старый». И утешал себя и ее: «Ах, собака, милая собака… Ну, да ничего. Поживем так, потерпим, а потом опять будем вместе. Я тебе не изменю, моя дуся, будь покойна. <…> Я привык к твоим заботам о себе (т. е. обо мне), и теперь я как на необитаемом острове».
Глава восьмая. В МЕЧТАХ И «В МЕЧТАХ»
Жизнь Книппер тоже вошла в колею: театр, портниха, обеды в кругу родной семьи, шумные, веселые. Немецкий клан Зальца — Книппер сильно отличался от семьи Чеховых: там чтили связи с соотечественниками, поддерживали родственные отношения, любили земные радости, поощряли занятия искусством (пение, музыка).
В день отъезда Чехова в Ялту 26 октября 1901 года Ольга Леонардовна описала мужу, как она плакала в финале «Трех сестер»: «<…> меня подхватили и утащили в уборную <…>. Я не могла сдержаться. Мучили меня, дергали, хотели раздеть и за доктором, дураки, послали. Я его конечно не пустила. <…> Все в театре меня утешают и сочувствуют. <…> Как мне хочется прильнуть к тебе. Твоя собака».
Следующее письмо она начала возвышенно: «Мне хочется изъясниться тебе в любви, говорить о чем-то хорошем, настоящем, хочется жить с тобой какой-то необыкновенной жизнью…» А далее — о земном, житейском, сиюминутном. Как Немирович «перекривил физиономию», почувствовав ее нежелание играть в его пьесе «В мечтах». Она риторически спрашивала мужа: «Что же мне делать? Капризничать и брыкаться мелко. А играть не хочется совсем эту пустопорожнюю роль». В конце опять о поцелуях и наказ — не тосковать, любить ее.
Назавтра опять сначала — ласковые советы, вопросы: «Устройся поскорее, чтоб тебе было уютно, тепленько. Как погода, как выглядит Могаби, сад, журавли?» Потом рассказ о прожитом дне, об обеде у родных: «Я сегодня в возбужденном состоянии <…> говорили глупости, грохотали так, что у меня все мускулы заболели <…>. Дурачились <…> рассказывали скабрезные анекдоты, но в сущности невинные. <…> Настроение было хорошее и я всплакнула. <…> болтала по-английски с старухой англичанкой. Жизнь мне казалась легкой и приятной». В конце уже привычное: «Целую твои глаза, щеки, лоб, губы, обнимаю тебя горячо, а ты меня тоже? Целую, целую и люблю. Собака».
В ее письмах — обилие уменьшительных суффиксов: «уютненько», «домик», «крылечко», «постелька», «бутылочка», «письмецо», «затменьице». Частые упоминания трапез с описанием блюд. Она обнаруживала свой природный вкус к здоровой, удобной жизни, привычки себялюбивого человека, но с чувством меры в своих поступках. Беспредельность, безграничность, беззаветность, самоотверженность, а тем более жертвенность, обыкновенно не свойственны таким натурам. Но в своих пределах это ясные люди, необременительные для окружающих.
Книппер бережно относилась к себе. Не тратила время и силы на ненужное. В быту любила, судя по ее письмам, по воспоминаниям современников, разумный порядок, чистоту, необходимые удобства, легкий комфорт. Однако бытом себя не обременяла — отдавала свободное время загородным прогулкам, чтению, отдыху, музицированию. Большие физические и душевные затраты нарушили бы то равновесие, которое Ольга Леонардовна очень ценила, в чем сама не раз признавалась. Она не была флегматичной. Даже говорила о себе, что «кипятливая». Но бурления бывали кратковременны, а в основном всё спокойно протекало в привычных берегах, в удобном русле.
Замужество предполагало перемены. Книппер оставляла их на потом, на время грядущей «необыкновенной», «настоящей» жизни. Она не отказывала. Она обещала. Но ощущая некоторое неудобство, неловкость, облекала это «потом» в словесную печаль: «Милый мой, хороший мой! Как мне будет тоскливо на Рождестве, когда я буду знать, что вы все вместе! Не забывай меня, Антонка мой. <…> Мне ужасно хочется долго, долго всматриваться в твои глаза, в твое лицо. Пиши все о себе. Целую. Твоя собака».
Умная, улавливавшая фальшь в людях и пьесах, она словно не замечала, что ее эпистолярные-объяснения в любви обретали сходство с репликами из мелодрам: «Мне пусто без твоих писем»; — «Холодно без тебя мне». Они выглядели бы, наверно, убедительнее, если бы в письмах тут же не рассказывалось об обеде у Лужских, где «вкусно очень было — грибки, селедочки, закусочки, чудные пирожки, тающие во рту, осетрина, говядина с овощами и шоколадное мороженое».
Это было в субботу. В этом же письме Книппер описала свое воскресенье, 5 ноября: «После репетиции я полежала, сбегала пообедать к маме и оттуда на „Дядю Ваню“. Первые два акта играла скверно, третий хорошо. <…> После спектакля заехала за мной Маша, и мы кутили на нашей вечеринке до 4 ч. утра. Это было какое-то сплошное бешенство, вихрь, — кто во что горазд. Пели, плясали, танцевали, всё и все смешались. Я играла в кошки и мышки <…>. Дубасили в гонг, оглушали всех, кричали, орали, хохотали. Но никто не был пьян, хотя кабачок был очень мило устроен. Угощение — только колбасы всех сортов, скверные яблоки и чай с сухарями. <…> Описать этого безумия просто невозможно».