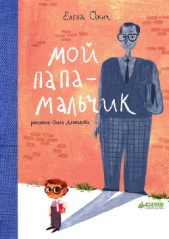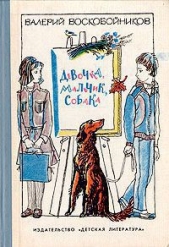Маленькая девочка из «Метрополя»

Маленькая девочка из «Метрополя» читать книгу онлайн
"Маленькая девочка из «Метрополя»" — не мемуары и не попытка после двадцати лет молчания дать интервью. Это просто эссе или новеллы, написанные по разным поводам. Но так получилось, что история жизни автора прорастает сквозь все описанные события.
А повесть, давшая название сборнику, — это то, с чего обычно начинали классики. Повесть о детстве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я хочу жить
Потом все-таки какая-то тетка за мной приехала, забрала меня, уже имевшую образование в объеме первого класса (это в десять-то лет!), но при этом круглую отличницу. И меня повезли с Урала домой. По дороге попутчицы менялись. Какое-то время я прожила у чужой тети, спала на полу. Вот она, по-моему, жалела меня, так как выразила желание тоже удочерить такую выдающуюся сироту, которая плетет бог знает что. Действительно, что я рассказывала о себе незнакомым людям, это не влезало ни в какие ворота (видимо).
Но я не дала себя удочерять. Я ее сразу невзлюбила как человека, покушающегося на собственность моей мамы. Я своей маме принадлежала полностью. Я ее боготворила. Ее чудесный образ меня, поэтически говоря, не покидал ни на минуту. Согревал меня, сироту детдомовскую (при наличии живых папы, бабушки, дедушки, тети и целого коллектива двоюродных бабушек, дядь и теть). У меня была одна цель жизни — жить вместе с мамой!
Меня привезли в Москву, и тут же я поехала на три месяца в пионерский лагерь. Это был опять труднейший процесс перевоспитания. В детском доме меня уже уважали как отличницу и артистку. А тут опять исключили — сначала сняли с должности председателя совета отряда, куда выбрали сразу же за невероятную активность и образцовое поведение в первые дни (я думаю), а затем и выкинули из пионеров на линейке. Ясно, за что, за драки, недисциплинированность и т. д. Своих носков, сандалий, носовых платков, расчесок и ленточек я вообще не видела в глаза с первых дней в лагере. Вскоре меня перевели в наказание в отряд помладше. Там я в первый же момент в восторге приняла участие в общей драке, мне сильно накостыляли, и я продолжала существование уже в том виде, к которому привыкла.
Единственное утешение было в искусстве. Я записалась в хор, в театральный кружок, в рисовальный кружок, в кружок танца. Я надеялась своими талантами пробиться к признанию в этом лагерном сообществе, в коллективе детей войны, воспитанных в условиях тотального голода и школьной дисциплины.
Но я не припомню, чтобы дети уважали кого бы то ни было за пение или рисование. К актерам и певцам они относились презрительно, как в древности к скоморохам. Дети ценили то, что вообще ценится в людях всякого времени — силу, презрение, молчаливость, собранность, волю к чему бы то ни было, то есть характер. Самоуважение также котировалось, но выше всего стояла простая и грубая физическая сила.
Моя репутация держалась за счет одного — на ночь, когда уже гасили свет, я рассказывала в спальне страшные случаи!
Я помню, как в том своем любимом детском доме в девять лет дорассказывалась до того, что все уже спали, а я не могла заснуть и вдруг впала в страшную панику, в первый раз в жизни поняла, что когда-нибудь умру, и начала кататься по кровати и кричать благим матом: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать! Не хочу умираа-ать!!! Хочу жи-ить! Ааа-а!» Все проснулись, включили свет, сбежались взрослые, держали меня за руки, я рвалась куда-то и кричала страшно.
Один раз я уже видела смерть — с балкона в Куйбышеве. Прямо под ним стоял грузовик, и в кузове, почему-то на голубых подушках, лежала мертвая девочка, одетая как кукла. Я ревела потом всю ночь.
В следующий раз я безутешно, почему-то не очень громко, скрываясь, плакала осенью 1949 года по возвращении из лагеря. Мама только что мне сказала, что Дедя умер год назад.
Дедя погиб в 1948 году, когда исполнилось десять лет с момента смертного приговора над его детьми Леночкой и Женей (те самые десять лет без права переписки). Он несколько раз сходил на Лубянку, седой, со снежно-белой бородой (малыши всегда принимали его за Деда Мороза и окружали, смеясь). Он писал заявления, где упирал на то, что десять лет прошло, где мои дети. Перед каждым посещением Лубянки прощался. Написал ряд писем Сталину, где порицал начальника НКВД Аввакумова за «барство». Потом он пошел с бидончиком на улицу Горького за молоком, стоял в толпе у светофора на углу напротив «Националя», пока шли машины, и его сильно толкнули прямо под колеса хлебного фургона (водитель, шоферша, на суде говорила, что этот дедушка из толпы просто сам бросился под колеса согнутый). В бумагах написали, что он был нетрезвый. Придумали энкавэдэшники убогие. Дедя не пил никогда.
Я провожала Дедю как могла, тихо скуля, почти без слез. Как исполняя какой-то важный обряд. Стояла в темном коридоре и плакала для него. Я тебя больше никогда не увижу. Как же так, я тебя больше не увижу. Дедя мой Дедя.
Мне казалось, что он слышит.
Незрелые ягоды крыжовника
Мама привезла девочку в санаторий для ослабленных детей и оставила там.
Это была осень, и дом, двухэтажный, бревенчатый, с галереями вдоль спален на втором этаже, стоял на берегу большого пруда, как многие барские усадьбы.
Вокруг простирался осенний парк с аллеями, полянами и домами, и запах палой листвы пьянил после городской гари — деревья стояли именно в золотом и медном уборе под густо-синими небесами.
В спальне девочек оказался рояль, неожиданное сокровище, и те счастливицы, которые умели играть, играли, а те несчастные, которые не умели, старались научиться.
Девочка эта была я, двенадцатилетнее существо, и я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце концов удалось вызубрить песенку «Едут леди на велосипеде», левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев — большого и мизинца (между до и соль), а правая под это ритмичное бултыханье (до-соль, до-соль) выделывает мелодию, блеск.
Рояль было первое, на что мы кинулись в дортуаре.
Девочка-то попала именно в барскую усадьбу с колоннами, с высокими потолками, дортуар был устроен в зале.
Кажется, после революции это имение было передано детям рабочих, туберкулезным детям рабочих, но к тому моменту, когда девочка доросла до пятого класса, уже все давно смешалось, и все дети были детьми рабочих, одинаково жили в коммуналках, ездили в битком набитом городском транспорте и ели в столовых, где не хватало мест, так что полагалось выстаивать очередь к каждому стулу, на котором сидел едок. Очереди шли перекрестком от любого стола, четыре луча от четырех стульев, и сплетались между собой, голодные очереди, следящие за каждой ложкой, отправляемой в пасть сидящих как баре и не торопящихся никуда едоков, дорвавшихся наконец до сиденья. Все были рабочие, все стояли в очередях за хлебом, картошкой, за ботинками, штанами и очень редко за чем-то роскошным типа пальто.
И в квартире надо было ждать под дверью то ли уборной, то ли ванной, и на остановке надо было ждать, причем в толпе, и не обязательно передние первыми врывались в пришедший транспорт, иногда задние оказывались сильней и шли по ногам, лишая слабых, пришедших раньше, того малого преимущества, которое давала справедливая очередь.
Очередь — воплощенная справедливость, и очередь дошла и до девочки, которую мама записала в туберкулезном диспансере на путевку в лесную школу (так назывался санаторий).
И вот, покинув задымленные московские улицы, свою районную школу, сверкающую чистотой, и постоянное ложе сна, находившееся на матрасе на полу под столом, девочка в сопровождении мамы поехала на электричке с чемоданом в лесную школу, где спальня с роялем называлась «дортуар», где в столовой была целая колоннада по бокам и хоры наверху (бальный зал).
Я не берусь описывать, какова была та девочка двенадцати лет чисто внешне. Как известно, внешность многое показывает, но не все, внешность может показать, например, как человек ест, ходит, говорит и что он говорит, как отвечает учителю или как бегает в парке, но нельзя никак и никому дать знать, как протекает жизнь внутренняя, никто и догадаться не в силах и судит о человеке по пустым внешним проявлениям. Например, и у преступника идет постоянный внутренний разговор с самим собой, оправдательный разговор, и если бы кто слышал этот разговор, если бы! И у заурядной, обычной девочки двенадцати лет этот разговор шел беспрерывно, все время надо было решать, что делать, буквально каждую минуту — как и что кому ответить, где встать, куда идти, как реагировать. Все с одной очень важной целью, чтобы спастись, чтобы не били, не дразнили, не вытесняли.