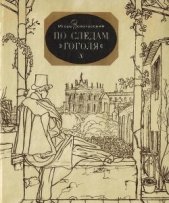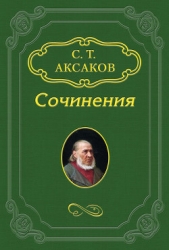Воспоминания современников о Н. В. Гоголе

Воспоминания современников о Н. В. Гоголе читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8-го марта, при многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, как он объелся грибков. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно также читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 17-го апреля, тоже в субботу, он прочел нам, перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Армфельд, приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ Гоголю и что он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.
Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой. Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, Марья Ивановна жила вместе с своими дочерьми также у Погодина.
В это пребывание свое в Москве Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage). Гоголь взял обещание с Веры, что она напишет ему масляными красками мой портрет, на что Вера согласилась с тем, чтобы он прислал нам свой, и он обещал.
Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, на все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы «Мертвых душ». Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения; потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых.
Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин, и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду, маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь, собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.
Последнюю неделю своего пребывания в Москве Гоголь был у нас всякий день и пять раз обедал, по большей части с своей матерью и сестрами. Отъезд Гоголя с Пановым был назначен на 17-ое мая.
Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. Играла m-lle Allan, приехавшая из Петербурга; после спектакля он хотел ехать; но, за большим разгоном, лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18-го мая, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ» совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому, чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западного горизонта; сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Не трудно было составить благоприятное толкование небесного знаменья. Каких блистательных надежд, каких великих созданий и какого полного торжества его славы мы не могли ожидать в будущем! Это явление произвело на нас с Константином, особенно на меня, такое сильное впечатление, что я во всю остальную жизнь Гоголя никогда не смущался черными тучами, которые не только затемняли его путь, но даже грозили пресечь его существование, не дав ему кончить великого труда. До самого последнего страшного известия я был убежден, что Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему предназначенного.