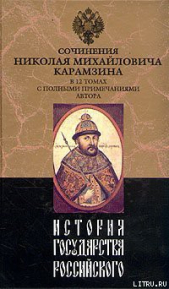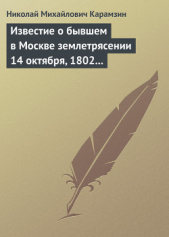Лермонтов

Лермонтов читать книгу онлайн
Новая биография М. Ю. Лермонтова — во многом оригинальное исследование жизни и творчества великого русского поэта. Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не бесспорные, но безусловно, интересные авторские оценки лермонтовского наследия и суждения, не имеющие аналогов в практике отечественного лермонтоведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последние полгода были довольно тяжелы. В пятом классе занятий гораздо больше, чем в четвертом. Ни в пансионе, ни дома нет передышки. Хлопотливая жизнь! Лермонтов слушал Сандунова, Каченовского, Мерзлякова, Раича, Василевского, Перевощикова. Перевощиков пробудил в нем любовь к математике: отобрав из класса четверых учеников, профессор начал с ними ускоренный курс, чтобы в два года пройти его от начал до дифференциального исчисления. Близ Трехгорной заставы у Перевощикова была астрономическая обсерватория (и математику и астрономию он читал в пансионе и университете) — тут, в вечерние зимние часы, совершал он с учениками мысленные полеты от созвездия к созвездию. Божье мироздание раздвигалось до немыслимых пределов...
Профессор истории Василевский, некогда блестящий лектор, но теперь как бы угасший и несколько вялый, читал по своей потертой тетрадке о новейших событиях в Европе — от французской революции до падения Наполеона... Лермонтов старался записать все, но старичок часто возвращался к уже рассказанному, а иногда в одну фразу вколачивал события за несколько лет...
Семен Раич, узкоплечий маленький человек с длинными волосами, всегда оживленный и даже вдохновенный, поэт, переводчик Вергилия и Тассо, издатель «Новых Аонид», преподавал в пансионе «Практическую российскую словесность», в отличие от Каченовского и Мерзлякова, занимавшихся теорией. Из русских поэтов он более всего любил Державина и Дмитриева, а затем Батюшкова. Мысли его о поэзии были довольно просты. Он считал, что «дидактика», то есть нравоучительность, «полезность» стихов, должна уравновешиваться их «приятностью», благозвучием, чтобы ум и сердце, одновременно получая пищу, сливали это воедино. В своих собственных стихах он старался быть легким и разнообразным, но старание проглядывало все-таки сквозь вдохновение. А особенно в переводах. В 1828 году он выпустил в четырех томиках «Освобожденный Иерусалим» Тассо, но не воспроизвел в нем классической итальянской октавы, а передал всю поэму двенадцатистрочной строфой с чередованием четырехстопных и трехстопных ямбических строк. Что хорошо было в балладах Жуковского, то оказалось на удивление скучным в эпической поэме... Но упрямый Раич принялся за новую большую работу — тем же балладным складом начал переводить «Неистового Роланда» Ариосто. И все же, и все же — когда Раич входил в аудиторию или открывал заседание литературного Собрания в библиотеке пансиона, — с первого взгляда было видно, что это поэт, что стихи для него — воздух, которым он дышит. Пансионские стихотворцы больше тянулись к нему, чем к Мерзлякову, который хотя и был тоже поэтом, но уже несколько отодвинутым в прошлое. Раич был в свое время его учеником, ходил на публичные чтения о поэзии, которые Мерзляков устраивал для всей Москвы. И действительно, вся Москва, любители словесности из всех слоев населения, набивалась в те залы, где Мерзляков «разбирал» огромную поэму Хераскова «Россиада» или рассказывал о Гомере, Вергилии, Тассо. Ему было около пятидесяти лет. Сил у него оставалось мало. Публичных лекций он уже не читал, но пансионеры и студенты все еще слушали его с увлечением. Не держа под рукой никаких книг и записей, Мерзляков на кафедре всегда импровизировал — ему помогал колоссальный запас знаний. Небольшого роста, с простоватым лицом, он говорил, по-мужицки напирая на «о», слегка заикаясь, но голос у него был звучный, красивый, завораживающий. Его все любили. Но пансионские стихотворцы еще и боялись. Никакой снисходительности к ним он не проявлял и говорил прямо, что стихи — плохие (по большей части они таковыми и были). И уж конечно, похвала от него многого стоила...
Всю жизнь он репетировал, то есть давал частные уроки, так как всегда жил в нужде. Бабушка, не спросивши согласия Миши, пригласила Мерзлякова для домашних занятий с ним. Профессор приходил раз в неделю. Мише с ним было почему-то дома неловко. Эти занятия его тяготили, он делался угрюмым и скованным. А Мерзляков, если у него не налаживалось хорошее понимание со слушателем, терял почти все свое красноречие... Однако некоторые мысли его хорошо запомнились Лермонтову. Мерзляков говорил о том, что «наружные прелести сочинения» — красота слога, живость и сила языка — не могут быть главными при суждении о его достоинстве. «Мысль и чувство есть душа творения, — говорил он. — Им поэт жертвует иногда и самой гармонией слога, им посвящает и новый, не вошедший еще в общее употребление оборот или слово... В руке великого писателя все облагораживается, оживотворяется, в руках обыкновенных все цветущее вянет и сохнет... Отчего Гомер, Феокрит, Вергилий не только в хороших, но и в посредственных переводах узнаны и всегда остаются друзьями всех, которые совсем не знают ни по-гречески, ни по-латыни? Оттого, что истинное и вечное достоинство заключается в сущности сочинения и остается равно неизменным для всех народов и во всех веках, оттого, что сочинение может стареть в наружном облачении или слоге, но внутренние красоты его действуют всегда в своей мере и силе, а потому и всякая похвала, относящаяся единственно к слогу и красотам его, не должна составлять главной и существенной цены творения».
Да, Раич говорил о том же, но насколько убедительнее продуманные заключения Мерзлякова!
...Облака темнели. Сквозь них пробивались последние лучи солнца. Как быстро наступил вечер! Снизу донеслись звуки фортепиано, послышались голоса. Во флигелях засветились окна. Стал виден костер на реке. Через двор прошли две старушки с книгами в руках — читали в парке. Это гостьи Екатерины Аркадьевны. Служанка несет за ними зонты и складные стулья. У Екатерины Аркадьевны всегда живут какие-то дальние, вовсе неведомые Мише родственники. А вот отец сюда не приедет. Мишу будто что-то кольнуло в сердце. Он сбежал вниз и через минуту оказался в своей комнате. Сел у окна... Нет, отец не приедет... Виделись они в этом году всего два раза — в феврале и мае. Как всегда, мимолетно. Однако в феврале, 6-го числа, смотрели вместе «Разбойников» Шиллера с Мочаловым в роли Карла Моора. А 19 мая — «Тридцать лет, или Жизнь игрока», мелодраму Дюканжа и Дино, тоже с Мочаловым — в роли Жоржа де Жермани, молодого человека, который проиграл в карты свое состояние, впал в нищету и вынужден был жить в лесной хижине, чтобы укрыться от кредиторов.
Картежник! И больше как будто ничего! Но Мочалов играл его так тонко, с такой страстью, что он выглядел чуть ли не падшим ангелом, в котором оставалось немало чистого и благородного. Три акта пьесы — три разных возраста Жоржа. В первом он юноша. Негодяй Вернер, его злой гений, толкает его в бездну. Он пытается сопротивляться, но напрасно. В последнем акте он старик, в нем живет сознание страшной катастрофы, постигшей его душу. До сих пор звучит в ушах Лермонтова потрясающий голос Мочалова в заключительной сцене: «Теперь пойдем, злодей! Я от тебя не отстану! Клянусь в том адом!» — Жорж тащит своего губителя в горящую хижину... они погибают вместе... Картежник! Шулер! Да, но... Лермонтов вспомнил благообразных вельмож с картами в руках, в трубочном дыму... Что они? Кто лучше — Жорж или такой вот бездельник со звездой, — это еще вопрос. Лермонтов почти готов был ответить на такой вопрос в пользу Жоржа.
В «Разбойниках» Сандунов изрядно ощипал Шиллера, но несколько сильных мест осталось, и тут, на фоне в общем скучноватого спектакля, давал себя знать великий талант актера. Один — игрок. Другой — разбойник. Оба они преступники в глазах благоразумия. Но той части благородства, которая в них есть, хватит на тысячу «честных» людей! Сандунов перекроил «Разбойников», но эта трагедия давно известна Мише в ее настоящем виде, и не в переводе. У него есть Шиллер, Лессинг и Гёте на немецком языке.
На дворе раздался шум — стук колес, топот лошадей, восклицания. Замелькали фонари... Еще кто-то приехал к Екатерине Аркадьевне. Гостиная будет полна стариков и старух. Из молодых никого пока нет, кроме Аркашки Столыпина. Жаль, что нет Жандро! И что за несчастная судьба у этих бравых наполеоновских офицеров? Капэ погиб от чахотки. Жандро все крепился, но перед отъездом в Середниково слег. Дай Бог, чтобы прошло, пронесло. Неуютно им на чужбине. Россия для них слишком сурова. Как нарочно, и лето нынешнее прохладно.