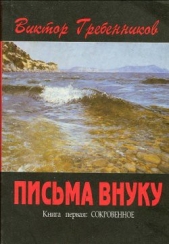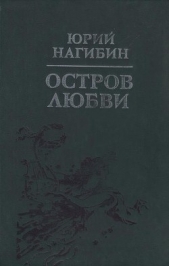Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве

Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве читать книгу онлайн
Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.
Воспоминания сибирского писателя и художника, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых-сороковых годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо сорок пятое: ИСИЛЬКУЛЬ. ВОЙНА
I. Название этого письма, мой дорогой внук, будет не очень соответствовать содержанию, так как участником самой войны мне быть не пришлось; впрочем, лучше обо всём по порядку. Закончили мы, кажется, на том, как наша семья, по пути из Средней Азии в Симферополь, решила после мотаний по стране, уже начавших напоминать мельмотские броски во времени и пространстве и неожиданно-трагические перевоплощения этого сказанного героя романа Чарльза Мэтьюрина и других его персонажей, немного передохнуть у родственников, каковые жили в посёлочке Исилькуле на юго-западе Омской области — это посредине железной дороги между Омском и Петропавловском-Казахстанским. Зима была здесь в самом разгаре — с невиданными мною доселе морозами, усугубленными разгульными степными ветрами. Мне было как-то дико, странно и даже страшно оттого, что я попал в этот, казалось бы, не пригодный для какой бы то ни было жизни мир: на небе сияет солнце, да не простое, а с некоими двумя ярко-радужными устрашающими пятнами по бокам (это были гало, или ложные солнца — отражения светила в небесных морозных крохотных кристалликах), но это «тройное» солнце не только не растапливает снег, что вообще, как я знал по Крыму, противоестественно, а делает этот свирепый мороз ещё более жгучим и опасным; чуть недосмотришь — побелеет щека или нос, а после омертвения ткань будет ещё долго болеть и даже гнить, пока не сойдёт и не заменится новой тканью. В доме у наших родственников Гребенниковых, живших у рынка по Омской улице, 4 (сейчас нумерация изменена) было однако тесно, людно, и, самое главное, приветливо. Жена дядюшки Димитрия, гармонных дел мастера, тётя Надя, сноровистая, неунывающая и бойкая на язык, тут же поняв одну из главных причин наших мытарств и изгнаний, распорядилась сложить все наши обовшивевшие монатки в углу, погнала нас в баню (баня та может стать предметом особого рассказа), после чего капитально обстирала нас, и, что самое главное, всю нашу одежду тщательно прогладила здоровенным, заправленным жарким углём, утюгом — для полнейшего уничтожения сказанных премерзких насекомых, густо населивших швы и складки. На более или менее полную такую нашу санобработку ушло у неё несколько дней, да иначе было и нельзя, поскольку семья у них была, в отличие от отцовской, очень большой: мои двоюродные сестры Наталья, Мария, Раиса; самая старшая дочь Клавдия с мужем-военным и двумя детишками жила где-то в Литве; двое братьев, Николай и Виктор, служили в армии, и место в не очень-то просторном полудеревянном-полусаманном домишке с глиняной смазной крышею для нас кое-как нашлось.
II. Тут я сделал ещё одно очень важное для себя открытие: насколько это приятно быть чистым, переодетым не в замусоленные грязные одежды, в складках коей кишат жирные платяные вши и бисером сверкают их яички-гниды, ты же вынужден постоянно, днем и ночью, чесаться — а в одежду обеззараженную, чистую, выстиранную, пахнущую морозным озоном и утюжным древесным жаром. Измученное тело в такой непривычной среде не просто отдыхало, а наслаждалось чистотой, воздухом, опрятностью и полным отсутствием омерзительных паразитов; ощущение этой метаморфозы — одно из сильнейших моих воспоминаний. Кроме как в баню я до здешней весны на улицу практически не выходил: и не в чем было (зачем, спрашивается, покупать валенки-шубы-шапки, когда скоро домой, в тёплый мой Симферополь?), и незачем, ибо меня очень удручал вид убогих улиц этого самого Исилькуля с его саманными, редко деревянными домишками и землянками, едва видневшимися, из-под сугробов, с его всей неприютностью и убогостью. Когда пришла весна, снег постепенно осел и обнажил улицы, которые были совершенно ничем не покрыты — в этих краях не было ни камня, ни песка, — и обнажилась их поверхность, превратившаяся в чёрную, мягкую, совершенно непролазную грязь, через которую не то что в ботинках, айв сапожищах было не пролезть: начавшиеся унылые дожди сделали эту грязь жидкой, каковая жидкость никуда не утекала, так как местность была совершенно горизонтальной, чего я раньше не мог себе представить. По колено в этой смачно хлюпающей грязи люди передвигались вдоль улочек поселка, хватаясь за заборы или ставни домов, ибо было неизвестно, что там, в глубине — ровная ли почва или же яма до пояса, вырытая в сухое время года хозяином, дабы прохожим-проезжим не повадно было двигаться впритирку к его дурацким окошкам, обрамлённым деревянными безвкусно-резными причиндалами. Эти бесконечные уличные грязевые озёра плодили тучи комаров, от коих я не знал как и избавиться — они оставляли после своих укусов плотные зудящие шишки. Так что я старался по возможности не выходить на эти гнусные улицы, и тут мне подвалило некоторое счастье: наконец подошел багаж «малой скоростью», и я, чтоб усиленно скоротать время, упросил отца вскрыть один из самых тяжеленных ящиков, что с книгами, каковой мы не вскрывали ни в Щучьем, ни в Ташкенте, ни в Солдатском.
III. Забившись в тёплый уголок за перегородкой, я углубился в книги, по которым, оказывается, проголодался до невозможности, и проглатывал их одну за другой, благо их отец захватил изрядно, включая одну из множества энциклопедий. Отрывался лишь от них, когда звали на обед; поскольку народу, вместе с нами, стало превесьма много, то сдвигались два стола, с одной стороны коих вместо стульев клалась на два табурета длинная толстая доска. О еде тех мест и времён в памяти мало что сохранилось, удивили лишь серые, с крупными жёсткими отрубями, мучные изделия тёти-Надиного изготовления — что лепёшки, что пирожки, что пельмени, для коих, по моему мнению, эта серая дешёвая несеяная мука вовсе не подходила; её называли «размол» в отличие от белой «сеянки», и потребляли лишь потому, что она была намного дешевле. Доходы дяди Димитрия, ремонтировавшего гармошки, были не так уж и велики; тетя же Надя, бегавшая по утрам куда-то в соседний колхоз имени Ворошилова отрабатывать некие свои трудодни, надеялась больше на свою коровёнку да на урожай, собранный тут же с дворового огорода, впрочем, весьма обширного. Лакомства и те были тут какими-то грубыми, примитивными: вместо варенья — некая патока, отдающая свёклой, вместо маринадов — огромные, сопливого вида грибы, с вогнутыми серого цвета шляпками, доставаемые из бочки, где они вместе с рассолом были всегда подёрнуты сверху белыми лохмотьями некоей плесени, и это так полагалось; в другой бочке находилась кислейшая и солонейшая грубо нарезанная капуста; грибами и капустою закусывали некий мутновато-коричневый напиток домашнего же изделия, называемый брагою; отец категорически от него отказывался, а тётя Надя с дядей Димитрием пили его кружками (дядя перед принятием каждой, слегка отвернувшись, крестился), после чего делались веселыми, громогласными. Тётя Надя сыпала поговорками, нередко весьма неприличными, после чего пускалась в пляс; веселились и все остальные.
IV. Сквозь шум одного из таких обедов — а на дворе было уже лето, и мы уже полностью приготовились к возвращению в Крым — я услышал из чёрного картонного радиорепродуктора некие тревожные слова: какие-то немцы бомбили Минск, Киев, другие города, где-то там идут тяжёлые сражения; вслед за мной к радио стали прислушиваться и другие, лишь одна из хозяйских дочерей Мария, до упаду рассмеявшаяся по поводу какой-то припевки матери, не могла остановиться, так что хохотушку выставили в другую комнату. Дослушав конец этого неожиданного и зловещего сообщения, мы с большим трудом поняли, что это — настоящая Война. На следующее же утро отец поспешил в сберкассу, дабы снять деньги с аккредитива для срочного отъезда в Симферополь, но из окошечка ему сказали: вот вам только двести рублей, а за следующими двумястами придете не ранее чем через месяц, таково срочное распоряжение правительства. А через пару месяцев на исилькульском базаре стакан грубого табака-самосада стал стоить как раз двести рублей, да и поездки на запад, а потом и куда угодно, будут разрешаться только после специальных вызовов и пропусков. Так я, пережив ещё один пароксизм сильнейшей тоски и страха, называемой нынче стрессом, в одночасье стал из крымчанина жителем то ли Сибири, то ли Казахстана, что, впрочем, в те годы не имело абсолютно никакого значения, тем более для меня, четырнадцатилетнего, занесённого на этот убогий, тоскливый, погрязший в безбрежных уличных лужах край света — такими вот невесёлыми и странными судьбами…