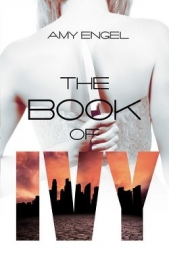Жестокий мир кино (Лaтepнa магика)

Жестокий мир кино (Лaтepнa магика) читать книгу онлайн
"Я просто радарное устройство, которое регистрирует предметы и явления и возвращает эти предметы и явления в отраженной форме вперемешку с воспоминаниями, снами и фантазиями, — сказал в одном из немногочисленных интервью знаменитый шведский театральный и кинорежиссер Ингмар Бергман. — Я не позволяю насильно тянуть себя в ту или иную сторону. Мои основные воззрения заключаются в том, чтобы вообще не иметь никаких воззрений".
В этих словах есть доля лукавства: фильмы Бергмана — исследование той или иной стороны человеческого сообщества, идеологической доктрины, отношений между людьми. Достаточно вспомнить его самые яркие фильмы — "Змеиное яйцо" и "Стыд" (анатомия фашизма), "Седьмая печать" и "Вечер шутов" (судьба "маленького человека"), "Персона", "Час волка" (жребий художника), "Земляничная поляна", "Осенняя соната" (цена любви), "Причастие" (отрицание Бога).
В том мемуарной прозы вошли его две автобиографические книги — "Латерна магика" и "Картины", которые подтверждают, что Бергман не "призрачная фигура, не способная ни любить, ни согревать", а мощный художник, создавший шедевры, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот я стою на улице. Смеркается, идет небольшой снежок. Все вокруг, как на ксерокопии — грубо, четко, черно — белые тона, полное отсутствие красок. У меня стучат зубы, мысли и чувства атрофированы. Я беру такси и еду к театру, где у заднего входа оставил машину. По дороге домой проезжаю мимо казарм лейб- гвардии. Крыша в огне — высокие языки пламени на фоне темнеющего неба. Сейчас я спрашиваю себя, не пригрезилось ли это мне — я не видел ни пожарных машин, ни толпы. Стояла полная тишина, падал снег, и горели казармы лейб — гвардии.
Наконец добираюсь до квартиры. Ингрид дома. Обыск застал ее врасплох: она ведь ничего не знала. Полицейские вели себя вежливо, не слишком усердствовали. Забрали несколько папок, больше для вида. Потом она села ждать меня. Время тянулось так медленно, что она решила испечь печенье.
Я звоню Харри Шайну и Свену Харальду Бауэру. Оба растерянны и потрясены. Что еще происходит в этот вечер, не знаю. Обедаем? Наверное. Смотрим телевизор? Возможно.
Поздно вечером, когда мы уже легли спать, меня внезапно озаряет — завтра утром журналисты устроят здесь, на Карлаплан, 10, осаду. Я упаковываю самые необходимые веши и отправляюсь в крохотную квартирку на Гревтурегатан, куда мы с Гун переехали, сбежав из Парижа осенью 1949 года. С тех пор каждый раз, когда меня настигает катастрофа, терпит крах очередной брак или возникают другие осложнения, я переселяюсь на Гревтурегатан.
На этот раз я появляюсь там ночью. Безликость комнаты создает чувство безопасности. Приняв снотворное, я засыпаю.
Что было в субботу и воскресенье, забыл. Я сижу, запершись, на Гревтурегатан, появляясь дома на два — три часа вечером. Выхожу через гараж, не встречая ни души.
Газеты, телевидение, радио стараются вовсю — кричащие заголовки на первых страницах, комментарии в программах новостей. Мой двенадцатилетний сын Даниэль отказывается ходить в школу. Он до того перепуган, что отсиживается в будке кинотеатра «Рёда кварн» у своего друга киномеханика по прозвищу Щепоть, который очень ему помог в это трудное время. Какова была реакция остальных моих детей, не имею понятия, я с ними тогда почти не общался. Большинство из них к тому же придерживалось левых взглядов и, как я выяснил потом, считало, что так, мол, папаше и надо. Кое‑кто сразу же зачислил меня в преступники.
В понедельник утром наступил кризис. Я сижу в гостиной на верхнем этаже, читаю книгу, слушаю музыку. Ингрид ушла на встречу с адвокатами. Я ничего не чувствую, внутренне собран, но несколько оглушен снотворными, — обычно я ими никогда не пользуюсь.
Музыка замолкает, раздается легкий щелчок, пленка останавливается. Воцаряется тишина. Неспешно падает снег, крыши на другой стороне улицы совсем белые. Закрываю книгу — все равно я с трудом понимаю, о чем читаю. Комната освещена резким дневным светом, без теней. Бьют часы. Может, я сплю, может, просто перешагнул из подвластной органам чувств реальности в другую реальность. Не знаю, только я погрузился в глубину неподвижной пустоты — безболезненной, бесчувственной. Закрываю глаза — мне кажется, что я закрываю глаза, — ощущаю присутствие в комнате постороннего и вновь открываю глаза: в двух— трех метрах в резком свете дня стою я сам и рассматриваю фигуру в кресле. Переживание конкретно, неопровержимо. Я стою на желтом ковре и рассматриваю себя, сидящего в кресле. Я сижу в кресле и рассматриваю себя, стоящего на желтом ковре. Я, сидящий в кресле, пока еще управляю своими реакциями. Это конец, возврата нет. Я слышу свой громкий жалобный крик.
В своей жизни я несколько раз тешился мыслью о самоубийстве, как‑то раз в юности даже инсценировал неуклюжую попытку. Но никогда не помышлял о том, чтобы превратить игру в реальность. Чересчур велико было мое любопытство, желание жить слишком сильно, а страх смерти по — детски слишком стоек.
Подобная жизненная позиция предполагает тем не менее четкий и надежный контроль своего отношения к действительности, фантазиям, снам. Если контроль не срабатывает, чего со мной никогда, даже в раннем детстве, не случалось, механизм взрывается, грозя уничтожить личность. Я слышу свой жалобный, как у побитой собаки, голос и встаю, намереваясь выйти через окно.
Я не знал, что Ингрид уже вернулась домой. И вдруг появляется мой лучший друг и врач Стюре Хеландер. Через час я — в психиатрическом отделении Каролинской больницы. Меня помещают одного в большую палату, где стоят еще четыре кровати. Во время обхода ко мне приветливо обращается профессор, я говорю что‑то про стыд, привожу свою любимую цитату насчет того, что страх облекает в плоть и кровь причину страха, каменею от горя. Мне делают укол — и я засыпаю.
Три недели в больнице проходят весьма приятно. Мы — непритязательное сборище бедняг, оглушенных наркотическими лекарствами, — без возражений следуем неутомительному распорядку дня. Я принимаю пять голубых таблеток валиума в день и две таблетки могадона на ночь. Если я чувствую хоть малейшие признаки дурного настроения, иду к медсестре и получаю дополнительную порцию. Ночами я сплю глубоким сном без сновидений и по нескольку часов дремлю днем.
В промежутках с жалким остатком профессионального любопытства изучаю окружающую меня обстановку. Я обитаю за ширмой в большой пустой палате, время провожу в основном за чтением, не запоминая прочитанного. Едим мы в маленькой столовой, разговоры вежливые, ни к чему не обязывающие. Взрывов чувств не наблюдается. Единственное исключение — знаменитый скульптор, который однажды вечером, придя в дурное расположение духа, раскрошил себе почти все зубы. В остальном же вспоминаю одну грустную девушку, которой все время надо было мыть руки, и приветливого молодого человека двухметрового роста, страдавшего желтухой, — его пытались отучить от наркотиков с помощью метадона и с этой целью раз в неделю возили в психиатрическую клинику Уллерокер, где проводят этот вызвавший оживленные дискуссии эксперимент. Есть в отделении один пожилой молчаливый господин, пытавшийся покончить с собой — перерезал себе запястья ножовкой. Средних лет женщина с красивым строгим лицом страдает возбуждением двигательных нервов и преодолевает километр за километром по коридору.
По вечерам мы собираемся перед телевизором и смотрим передачи с чемпионата мира по фигурному катанию. Телевизор черно — белый, дышит на ладан, изображение двоится, звук плохой, но это не имеет значения и не вызывает протестов.
Ингрид навещает меня два — три раза в день, мы мирно и дружески беседуем. Иногда после обеда ходим в кино, как‑то раз «Сандревс» устроил показ фильма у себя в просмотровом зале, и тогда «метадонщику» тоже разрешили пойти с нами.
Газет я не читаю, не слушаю и не смотрю программы новостей. Постепенно, незаметно улетучивается самый верный спутник моей жизни — унаследованное от родителей беспокойство, составлявшее ядро моей личности, мой демон и в то же время друг и подгоняла. Не только боль, страх и чувство неотмщенного унижения бледнеют, уходят — тает, выветривается и движущая сила моего творчества.
Наверное, я мог бы остаться пациентом на всю жизнь — настолько грустно — приятно мое существование, ничего от меня не требующее, заботливо защищенное. Реальности больше нет, желаний никаких, ничего уже не волнует, не причиняет боль. Движения осторожны, реакции замедленны или вовсе отсутствуют, чувственность умерла; жизнь — элегия, звучащая где‑нибудь под гулкими сводами в исполнении многоголосого средневекового хора, горят окна — розетки, рассказывая старинные сказки, которые ко мне больше не имеют никакого отношения.
Однажды я спрашиваю любезного профессора, вылечил ли он когда‑нибудь в жизни хоть одного человека. Он серьезно задумывается и говорит: «Вылечить — великое слово», — потом качает головой и ободряюще улыбается. Идут минуты, дни, недели.
Не знаю, что заставляет меня нарушить это герметически надежное существование. Я прошу профессора разрешить мне перебраться в Софияхеммет, на пробу. Он соглашается, но предупреждает, что нельзя сразу прерывать курс валиума. Я благодарю его за участие и заботу, прощаюсь с пациентами и дарю отделению цветной телевизор.