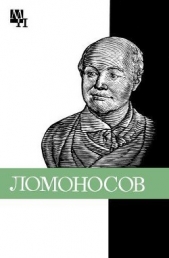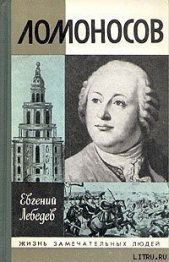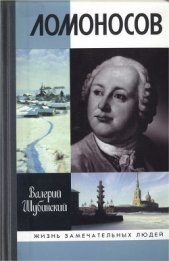Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765

Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765 читать книгу онлайн
Фундаментальное исследование, на которое автор потратил 5 лет, со всей полнотой представляет нам не только образ одного из величайших русских ученых и поэтов, но и широчайшую картину жизни России той эпохи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Снисходительно заметив, что приютивший его под своим кровом Миллер «лет на тридцать отстал от немецкой литературы», Шлёцер, едва освоившись с русским языком, «забраковал» грамматику Ломоносова и даже вознамерился сам составить новую, чем несказанно обрадовал Тауберта, который еще в начале 1763 года сказал ему: «Напишите сами русскую грамматику, Академия ее напечатает». «Я принял вызов», — говорит Шлёцер.
Шлёцер с присущим ему необычайным самомнением и заносчивостью счел себя ни много ни мало, как призванным создать русскую историческую науку, которая, по его словам, еще не существовала: «Что это были за люди в Академии и вне ее, которые принимали на себя вид, что они были тем, чем я хотел сделаться, — исследователями русской истории… — писал Шлёцер в своих мемуарах. — Впрочем, лет сорок тому назад еще попадались в Германии школьные учители, или даже ремесленники, которые прилежно читали городские и сельские хроники и правильно понимали их содержание, но не знали, жил ли Лютер до Карла Великого или после него. Таковы были тогда все без исключения читатели летописей в России» (подчеркнуто самим Шлёцером). Шлёцер имел здесь в виду прежде всего Татищева и Ломоносова. Последнего он прямо называет «грубый невежа, ничего не знавший, кроме своих летописей». С неслыханной развязностью Шлёцер все, что было сделано до него в русской истории, в частности Ломоносовым, объявляет своего рода черновым материалом, который и должен быть предоставлен в полное его распоряжение.
Что это было именно так, свидетельствуют «объяснения» Шлёцера, данные 25 июня 1763 года: «В моем плане я дважды упомянул имя Ломоносова: во-первых, вызываясь составить из его и Татищева сочинений древнюю русскую историю, потом выражая надежду, что при объяснении слов, непонятных неученым русским, я, конечно, найду благосклонное содействие у него и у других русских ученых». Против первого пункта шлёцеровского «плана» Ломоносов написал: «Я еще жив и пишу сам». А относительно второго на полях заметил: «то-есть я должен сделаться его чернорабочим». Шлёцер не представлял себе значения Ломоносова, размаха его гения, широты его кругозора, полученного им образования. Да и не желал себе представить! Перед ним был осыпанный почестями в прошлом царствовании «химик Ломоносов, который, вероятно, едва ли слыхал имя Византии». И это писалось о воспитаннике Славяно-греко-латинской академии в Москве, всю жизнь изучавшем исторические памятники! Но дело все же было не в Шлёцере, а в том, что вся обстановка, сложившаяся к тому времени в Академии наук, позволяла Шлёцеру не считаться с Ломоносовым.
Ломоносов пришел в ярость, увидев, что Шлёцер вознамерился «сочинять Российскую историю и требует себе в употребление исторические сочинения Татищева и Ломоносова» (тогда еще не опубликованные). Он чувствует себя крайне оскорбленным, что после того, как он двенадцать лет специально занимается русской историей, «принужден терпеть таковые наглости от иноземца, который еще только учится Российскому языку». Он подает в Конференцию особое мнение, в котором упрекает Шлёцера в «безмерном хвастовстве и в безвременных требованиях». Он изобличает самоуверенное невежество Шлёцера, указывая, что тот даже не уяснил себе разницу между церковно-славянским языком и древнерусским и «по истине не знает, сколько речи, в Российских летописях находящиеся, разнятся от древнего моравского языка, на который переведено прежде священное писание».
Шлёцер увлекался «корнесловием». Зная, что на протяжении своей исторической жизни отдельные слова могут самым причудливым образом менять свой смысл и звуковую форму, Шлёцер строил самые диковинные этимологии, на которые немедленно обрушивался Ломоносов, не признававший подобных упражнений. В короткой заметке о грамматике Шлёцера Ломоносов недоумевает, как этот «филолог» производит русское слово «боярин» от «барана», а слово «дева» связывает с немецким словом «Dieb» (вор), слово «князь» — с немецким «Knecht» (холоп). «Из чего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в Российских древностях такая допущенная в них скотина», — пишет в заключение Ломоносов.
Шлёцер чувствовал себя в России своеобразным «культуртрегером». Он представил в Академию наук план издания «популярных книжек». Книг для народа тогда было очень мало, и это весьма заботило передовых русских людей, в том числе Ломоносова. «Миллионы русских могли читать и писать, — свидетельствует Шлёцер, — сотни тысяч могли читать и книги, и любили читать, и жаждали знаний. Но только весьма немногие понимали иностранные книги, а потому им нужно было помочь переводами». Чем же собирался помочь Шлёцер русскому народу? «Высокоученых, классических, волюминозных иностранных произведений еще нельзя было предложить тогдашнему поколению», — полагал он, хотя еще Петр Великий указывал, что если что и переводить, то прежде всего солидное, классическое, основательное. Но Шлёцер полагал, что русский народ до этого еще не дорос, а посему намеревался начать его просвещение с издания книги, посвященной статистике Испании. «Так космополитически и патриотически мечтал я», — пишет он в своих воспоминаниях. Патриотизм, он, впрочем, понимал весьма своеобразно, так как он готов был служить кому угодно. Шлёцер долго изучал бухгалтерию, так как мечтал о том, чтобы устроиться в какую-либо французскую торговую компанию, прикапливал деньги на путешествие в Иерусалим и пытался устроиться в русское посольство в Константинополе. «Я ведь хотел путешествовать, — пишет он, — не в качестве мыслящего наблюдателя, еще менее в качестве сентиментального пейзажиста, но по делам… Я бы на все согласился: быть переводчиком, секретарем, агентом, консулом, резидентом и проч., и проч., и проч… в Персии, в Индии, в Китае, Египте, Марокко, Америке, устроился бы в каждом из них». С такой программой Шлёцер, разумеется, не собирался засиживаться в России. Вдобавок стало известно, что он получил звание (но не место) доктора Геттингенского университета. Все это разочаровало даже Миллера, который теперь писал: «Есть ли бы господин Шлёцер вознамерился препроводить всю свою жизнь в сочинении Российской истории и в службе Российского государства, то б я весьма тому радовался, потому что тогда мое намерение, которое я при выписывании его из-за моря имел и по коему я содержал его у себя шесть месяцев… во исполнение притти может». Но так как Миллеру стало «заподлинно известно», что к такому намерению склонить Шлёцера невозможно, то и обещать ему место профессора русской истории незачем.
Ломоносов имел все основания не доверять этому безродному космополиту. Узнав, что Шлёцер собирается покинуть Россию, он забил в набат. Шлёцеру был открыт свободный, бесконтрольный доступ к государственным архивам, и Ломоносов обеспокоился, что, собственно, извлек оттуда Шлёцер и в каком направлении может этим воспользоваться. «Уведомился де он, — писал Ломоносов в Сенат, — что находящийся здесь при переводах адъюнкт Шлёцер с позволения статского советника Тауберта переписал многие исторические известия, еще не изданные в свет, находящиеся в библиотечных манускриптах, на что он и писца нарочного содержит. А как известно, что оной Шлёцер отъезжает за море и оные манускрипты, конечно, вывезет с собой, для издания по своему произволению; известно же, что и здесь даваемые в России через иностранных известия не всегда без пороку и ошибок служащих России в предосуждение». Сенат повелел Шлёцера задержать отпуском, а библиотечные рукописи и все исторические известия, не изданные в свет, отобрать.
Но Тауберт, у которого, по словам Шлёцера, «тоже были добрые друзья в Сенате», предупредил события. Рано утром 3 июля 1764 года он нагрянул на квартиру к ничего не подозревавшему Шлёцеру. Наскоро объяснив ему, что стряслась беда, Тауберт поспешно собрал принадлежащие Академии наук рукописи и фолианты, которыми безвозбранно пользовался на дому Шлёцер, и «всю эту груду бумаг лакей бросил в карету, и Тауберт уехал», оставив всполошившегося Шлёцера размышлять о превратностях судьбы. Но Шлёцер не долго пребывал в унынии. Поддержанный и ободренный Таубертом и Тепловым, он стал держаться очень развязно. Он давал такие объяснения: к списыванию источников его побуждала не только потребность историка, но и своеобразное человеколюбие. У него был слуга, который «вдался в пьянство и другие пороки, свойственные подлому народу, я старался его от этого отвлечь и за наилучшее почел средство приобучить его к трудам. Я не мог иного ему дать дела, как заставить его писать. А других у меня для него письменных дел не было, кроме летописей; намерение мое мне удалось, и я вдруг сделал троякую пользу: детина от пороков своих отвадился, я достал летописи, а его сиятельство (президент Академии. — Л. М.)получил годного и употребительного слугу».