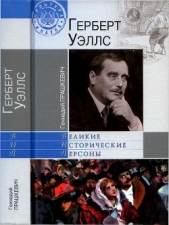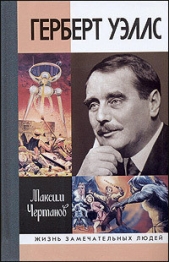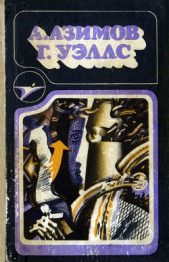Опыт автобиографии

Опыт автобиографии читать книгу онлайн
Приступая к написанию воспоминаний, автор и не подозревал, какое место в его творчестве они займут. Поначалу мемуары составили два тома. Со временем к ним добавился еще один, «Влюбленный Уэллс», — об отношениях с женщинами. В результате «Опыт» оказался одной из самых читаемых книг Уэллса, соперничая в популярности с его лучшими фантастическими романами.
В книге содержатся размышления не только над вопросами литературы. Маститый писатель предстает перед нами как социолог, философ, биолог, историк, но главное — как великая личность, великая даже в своих слабостях и недостатках. Горечь некоторых воспоминаний не «вытравляет» их мудрости и человечности.
«Опыт автобиографии» — один из важнейших литературных документов XX века.
На русском языке публикуется впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«От тебя не убежишь», — сказал я, целуя ее.
«А ты пытался?» — спросила она.
«Потому-то и уехал в Америку».
«Опять мне изменял?»
«Еще как».
«Вот и верь тебе после этого», — с улыбкой сказала Мура.
«Таких красивых гор, как в Аризоне, я в жизни не видел».
«Ты там был не один?»
«Если мужчина начинает отвечать на вопросы, на нем можно ставить крест. Но я ведь знаю, что именно тебя интересует, и потому, так уж и быть, на этот вопрос отвечу: один».
«Тогда, значит, в Коннектикуте…»
Я спросил о детях, но по тому, как я держался, нам обоим вдруг стало ясно, что случилось невероятное и от одержимости Мурой, так надолго захватившей мое воображение, не осталось и следа. В моих глазах она спустилась с небес на землю. И ровным счетом ничего не значит, что мы вместе пришли ко мне домой и вместе ели и спали в ту ночь. Былого восторга как не бывало. Я отношусь теперь к ней почти так же, как относился к своему большому черному коту, такому ласковому, уверенному в себе, привыкшему ластиться ко мне, которого, увы, пришлось оставить в Лу-Пиду. Уже не вызывает она у меня ни вражды, ни восторга, только истинно дружеское расположение.
Назавтра мы с ней беседовали.
«Ты плохо о себе заботишься, — заметил я. — Ты, право же, слишком много пьешь. Жаль, что нельзя снова ненадолго посадить тебя за решетку — в качестве лечения. Ты становишься ленивой и апатичной. Я пророк. Я знаю, каков будет конец наших отношений. Когда я превращусь в сморщенного старика с еле слышным голосом, ты расхвораешься у меня на руках и помрешь. Да, непременно, а обо мне и не подумаешь позаботиться. Будешь есть и пить, когда не велено, и на этом тебе придет конец. А я, несчастный старик, буду каждый день приходить и сидеть у твоей постели. У меня достанет чувства долга. Буду приносить цветы и разное прочее, чтобы ты думала, будто я все еще тебя люблю и поддерживаю в тебе веру в себя самое. В таких делах я всегда был даже чересчур внимателен. Сам не знаю почему, но я буду вести себя именно так».
«Ты меня любишь».
«И никогда не стану напоминать, как ты была безответственна, как подтачивала мои силы, и истощала, и опустошала меня».
«Ого! Ого-го!»
«Когда будешь умирать, я постараюсь, чтобы уход из жизни не был для тебя мучителен. На твоих похоронах я, наверно, заработаю двустороннюю пневмонию. Ты не желаешь, чтоб тебя кремировали, как всех порядочных людей. Ты настаиваешь, чтобы тебя закопали в землю, и, разумеется, будет по-твоему. День будет промозглый. Да, именно так. Ты уж постараешься, ведь это так на тебя похоже. Я провожу тебя в последний путь и приду домой подавленный, укутавшись в пальто, с первыми признаками простуды, которая меня доконает».
«Но прежде, чем все это случится, ты должен позволить мне сыграть толстуху в чаплиновской интерпретации „Мистера Полли“, ты мне обещал».
«Только на это ты и годишься. Но даже и тут ты наверняка меня подведешь. В самый разгар съемок либо захвораешь, либо укатишь в Эстонию».
Молчание.
«Милый ты мой. Что ж ты все рассуждаешь про любовь, а обо мне так неверно судишь?»
У нее отсутствует логика, и ничего с этим не поделаешь.
В духе такой вот насмешливо-нежной терпимости и кончается история моей любовной жизни. Я никогда не был большим охотником до любовных приключений, хотя нескольких женщин любил глубоко. Я постарался как можно полнее представить отношение Муры ко мне и мое к ней. Постарался воспроизвести нашу манеру разговаривать друг с другом. Я поведал обо всех ее недостатках, и слабостях, и провинностях, какие мне известны. Рассказывая о них, я раскрыл и свои собственные. И теперь, когда все сказано и сделано, самое главное совершенно ясно (надеюсь, я дал это понять): Мура та женщина, которую я действительно люблю. Я люблю ее голос, само ее присутствие, ее силу и ее слабости. Я радуюсь всякий раз, когда она приходит ко мне. Я люблю ее больше всего на свете. При такой любви все, что во благо, и все, что во зло, в крайнем случае интересно, но самое главное, глубинное, что моя любовь к Муре все равно неизменна. Мура — мой самый близкий человек. Даже когда в досаде на нее я позволяю себе изменить ей или когда она дурно со мной обходится и я сержусь на нее и плачу ей тем же, она все равно мне всех милей. И так будет до самой смерти. Нет мне спасения от ее улыбки и голоса, от вспышек благородства и чарующей нежности, как нет мне спасения от моего диабета и эмфиземы легких. Моя поджелудочная железа не такова, как ей положено быть; вот и Мура тоже. И та и другая — моя неотъемлемая часть, и ничего тут не поделаешь.
Я попытался поместить мои умозаключения обо всем, что касается любви, в завершающую главу книги «Анатомия бессилия» и надеюсь дополнить ее главой «Половая распущенность» [63]. Все написанное в этой книге тщательно продумано. Иногда мне кажется, в ней сказано именно то, что я намеревался сказать, а иногда чувствую, в ней нет необходимой ясности.
Качество жизни в значительной мере зависит от жилища. На Ганновер-террас, 13, начнется новый, последний этап моей жизни. Обставляли дом главным образом мой сын Фрэнк со своей женой Пегги и леди Коулфакс, но решающий голос принадлежал мне, и, должен заметить, мне вдруг остро захотелось поместить в столовой бюст Вольтера. Для меня это было очень важно, вероятно, он был символом того, какой мне мерещилась эта последняя глава моей истории; что-то вроде Вольтерова довольства в Фернэ. Как я понимаю, я намерен быть пожилым джентльменом с Ганновер-террас, который еще несколько лет, до самого своего конца, будет высказывать разные соображения и предложения. Надеюсь, голова у него будет работать до конца. У моего отца работала, у матери — нет.
Поживем — увидим.
Мой первый фильм «Грядущее» появился на экране кинотеатра на Лейчестер-сквер 21 февраля 1936 года после широковещательной рекламной кампании. Он имел немалый успех с коммерческой точки зрения, но для меня явился колоссальным разочарованием. Было совершенно ясно, что он претенциозный, топорный, сработан недоброкачественно. При его постановке я действовал неумело. Не смог как должно проследить за съемками. Камерон Мензис {416} оказался некомпетентным режиссером, он любил улизнуть на выездные съемки, любил тратить деньги на всякие ненужности, а Корда этому не препятствовал. Мензис был своего рода Сесил Б. де Милл, только не обладал таким же богатым воображением; его прельщала грохочущая техника и эффектные многолюдные сцены, а моими идеями он не проникся. Подсознание подсказывало ему, что собственный его ум весьма банален. Разговоров со мной он старательно избегал. Самая трудная часть фильма, и притом всего больше возбуждающая воображение, — та, где события происходят через сто двадцать лет после наших дней, но трудности ее воплощения испугали Мензиса; он предпочел уклониться от них и большую часть денег потратил на невероятно дорогую и тщательную разработку предшествующих двух третей сюжета. Добрую половину моих драматических сцен он либо вовсе не сумел поставить, либо поставил так скверно, что в конце концов их пришлось вырезать. Корда тоже меня разочаровал, да к тому же я и сам себя разочаровал. Трудности, которые мне следовало предвидеть, застали меня врасплох. Я недостаточно быстро понял, что собой представляет Корда, и не сразу научился на него влиять. Поначалу я заявил, что мы с ним схожи, и так оно и есть — мы оба умеем произвести впечатление и не заслуживаем доверия. Я устал писать дополнения к разработкам киносценария, которые потом неверно осмыслялись или опять вырезались.
В конце концов «Облик грядущего» был истолкован всего-навсего как эффектный, зрелищный намек на Мировую столицу, которой правят ученые и деловые люди. В виде Всемирной лиги воздухоплавателей здесь представлена идея «Нового курса», как она истолкована в «Анатомии бессилия». Но хотя я был весьма разочарован в своем первом опыте работы в кино и сознавал, что именно эта полуграмотная публика, с ее шумной тяжеловесностью, на умонастроение которой я хотел повлиять, нанесет вред, и, быть может, непоправимый, моему престижу, это вовсе не кончилось для меня депрессией и потерей надежды, как после поездки в Москву. «Анатомия бессилия», несомненно, помогла мне прийти в себя, и я учился не падать духом при поражении.