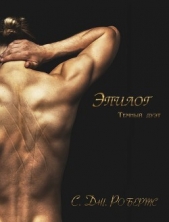Воспоминания. Том 2

Воспоминания. Том 2 читать книгу онлайн
“Прежде всего я считаю нужным сказать, что я не "сочинял" своих "Воспоминаний", а писал лишь о том, что сохранилось в моей памяти и, следовательно, опускал все то, что в ней не сохранилось. Отсюда излишняя подробность с одной стороны, сжатость и краткость изложения – с другой. Но "искренность" я выдерживал до конца, не позволяя себе ни уклоняться от правды, ни допускать тенденциозного освещения фактов...”
Князь Н.Д. Жевахов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И действительно, прошло немного времени, как братия предъявила игумену Мануилу требование об уходе на покой, и старец советовался с нами, как ему реагировать на такого рода наглое требование. Разумеется, и брат мой, и я усиленно убеждали игумена не только отклонить такое требование, но и использовать всю полноту его власти для обуздания зачинщиков. Кончилось тем, что игумен созвал всю братию и выбранил ее площадною бранью, проявив при этом совершенно исключительное мужество, изумительную находчивость и из ряда вон выходящую смелость. После учиненного разноса братия мгновенно смирилась и жизнь обители вошла в свое обычное русло. Это была едва ли не единственная в епархии обитель, где еще держалась власть законно поставленного игумена. Во всех прочих монастырях братия быстро революционизировалась, изгоняла прежних начальников, заменяла их выборными и проявляла открытое неповиновение к законной власти.
Личность игумена Мануила до того примечательна, что я должен остановиться на ней подробнее.
Крестьянский сын игумен Мануил с детства чувствовал влечение к иноческой жизни. Он несомненно родился не только с дарованиями, но и с той тоской по идеалу, какая обесценивала в его глазах все окружающее и гнала его из мира. Заглушая эту тоску, он подвергал себя не только аскетическим опытам, но и тяжелым епитимиям, добровольно налагая на себя всякого рода испытания, носил вериги, предавался посту, проводил ночи в поле на молитве и пр. Будучи сыном состоятельных родителей и не испытывая нужды, он добровольно бичевал себя, помогал больным, отказывая себе в куске хлеба, и горел только одним желанием всецело предать себя воле Божией и поступить в монастырь. Однако, родители были против такого намерения и, пристроив его на службу приказчиком в соседнем городе, думали женить его. Это решение до того испугало 16-летнего юношу, что он без оглядки бросился бежать куда глаза глядят, пока не добежал до ближайшего монастыря, где и укрылся. Чистосердечно рассказав настоятелю монастыря о причинах, заставивших его бежать из родительского дома, он попросил принять его в число братии, что тот и исполнил, обещая заступиться за него пред родителями.
Как протекала дальнейшая жизнь игумена Мануила я не знаю, ибо познакомился с ним лишь незадолго до революции, а ближе узнал его только во дни своего пребывания в скиту. Это был уже глубокий старец, очень растолстевший и обленившийся, ничем не интересовавшийся и равнодушный ко всему окружающему. Он еле передвигался с места на место, да и то с помощью двух послушников, поддерживавших его, хотя не пропускал ни одной церковной службы и аккуратно являлся в храм четыре раза в сутки на утреню, раннюю обедню, вечерню и всенощную, где предавался дремоте. Тем не менее от его зоркого наблюдения не ускользал ни малейший промах священнослужителей, которых он грозно окрикивал, замечая ошибку. Его игуменское кресло стояло раньше в алтаре, но по требованию братии, заявившей игумену, что он своим присутствием в алтаре вносит соблазн, было вынесено на левый клирос. Игумен Мануил подчинился требованию, однако не простил его, и, сидя на клиросе, проявлял свою игуменскую власть в формах еще более строгих, чем раньше.
– Чего ты вертишься в алтаре, как скотина, – раздавался с клироса властный голос игумена, обращенный к новопоставленному диакону, неумело совершавшему каждение.
В устах всякого другого такие приемы и напрашивались бы на осуждение, однако со стороны игумена Мануила здесь было столько простодушия и незлобливости, столько опытов дознанной уверенности в неприменимости никаких иных приемов отношения к его невежественной и грубой братии, что, конечно, осуждать его было бы несправедливо. И сам игумен прошел суровую школу жизни, сам вышел из крестьян и братию свою дисциплинировал способами, казавшимися ему наилучшими, не допуская и мысли, что его методы и системы воспитания братии могут рождать соблазн. Скит, начальником которого он был, являлся в его глазах вотчиной, а братия – его даровыми работниками. И со своей точки зрения он был прав, ибо никак не мог стать на другую точку зрения. Игумен Мануил, вступив в управление скитом, застал там только заброшенное ущелье между горами, не поддававшееся никакой обработке, усеянное пнями от срубленного леса, однако обладая исключительной энергией и большим практическим умом прирожденного строителя, привел скит в цветущее состояние, обновил старую маленькую церковь, заложил фундамент и довел до первого этажа огромный каменный храм, выстроил игуменский и братский корпуса, гостиницу для паломников, создал дивную пасеку и фруктовый сад и заставил говорить о себе и своей деятельности не только Киев, но и соседние губернии. Так как в этой работе ему не только никто не помогал, а наоборот, все, кто мог, мешали, то игумен Мануил, закончив свою строительскую деятельность, замкнулся в скиту, не входил в общение даже с архиерейской властью и проявлял чрезвычайную независимость и самостоятельность.
С назначением митрополита Владимира в Киев, Владыка, объезжая свою епархию, посетил и "Скит Пречистыя", расположенный на окраине города. После торжественного богослужения и достодолжного приема митрополиту была предложена роскошная трапеза, стол ломился от питий и яств, а в хрустальных вазах, откуда-то взятых напрокат, красовались дивные груши-дюшес. Залюбовавшись ими, митрополит взял одну:
– Вот Вы взяли грушу, – сказал игумен Мануил митрополиту, а того не знаете, что каждая из них стоит 10 рублей. А кто мне дал денег, чтобы купить их?! Лавра? Нет, своим потом и трудом заработал их, да теперь и Вас угощаю! Вот оно что! Кушайте, Владыка, на здоровье!
Митрополит поморщился, но ничего не ответил, зная, что с игуменом Мануилом препирательства бесполезны и психологию крестьянина переделать невозможно.
Часто вспоминая о посещении скита митрополитом Владимиром, игумен Мануил любил рассказывать и об эпизоде с грушами, и я однажды не удержался, чтобы не сказать игумену:
– Как же Вы так нелюбезно поступили с митрополитом, да еще Вашим гостем! Игумен сделал очень удивленное лицо и, недоумевая, спросил меня:
– Почему нелюбезно? Это вот братия моя точно отговаривала меня от лишних затрат, ну а я, ради митрополита, не пожалел и 100 рублей за один только десяток груш. Оно, конечно, за трапезою кому-либо из братии более бы пристало сказать об этом митрополиту и тем подчеркнуть мое усердие, но братия, как нарочно, сидела точно воды в рот набравши и все молчали, как рыбы. Я крепился и выжидал, да так ничего и не дождался. Тогда я сам сказал об этом митрополиту, чтобы Владыка знал, что я не поскупился на прием, хотя последний и влетел мне не в одну сотню рублей, одна рыба чего стоила, а кроме рыбы чего только не было! За месяц того не проешь, что проели за один только день, прости Господи!
Побуждения игумена были чистые, а выливались они в форму обычную в крестьянском быту и попытки изменить эти формы явились бы бесполезными.
Брату моему была отведена келлия в игуменском корпусе, меня же поместили на пасеке, где я жил в соседстве со старцем-монахом Петром и послушником последнего в маленьком домике, окруженном со всех сторон фруктовыми деревьями и цветами. Пасека была отрезана не только от всего мира, но даже от Скита и вокруг царила удивительная тишина. Если бы не беспокойство и тревоги о сестрах, из которых одна томилась в N-ской губернии, а другая уехала на неизвестное в N-скую губернию, о брате, которого я, хотя и видел каждый день, но в безопасности которого не был уверен, о друзьях и знакомых, повсюду рассеянных и трепетавших за свою участь, то я должен был бы признать, что не нашел бы лучшего места для духовной жизни. Там, на пасеке, было все, что возносило дух к небу, что успокаивало мятежную душу, научало и возрождало ее.
И снова я переживал те самые ощущения, коими был проникнут 10 лет тому назад, когда жил в Боровском монастыре преподобного Пафнутия, Калужской губернии... Тогда мое пребывания в этом монастыре с мыслию остаться там навсегда вызывало и недоумения и негодования со стороны близких, а мои письма оттуда являлись предметом насмешек и всяческих осуждений. А ведь перспективы меняются в зависимости от того места, с которого мы их рассматриваем, и то, что видно монастырю, того не видно миру! Между реализмом и мистикой такое же родство, как между умом и сердцем, и мистика реальна лишь для сердца. С какого же места видна подлинная Правда? Этого вопроса для меня уже не существовало... Конечно, с монастырской ограды! И это место становилось для меня все более дорогим, дорогим потому, что доводило перспективу не только до ее земных пределов, но и далеко за эти пределы, раскрывая духовному взору незримые области горнего знания...