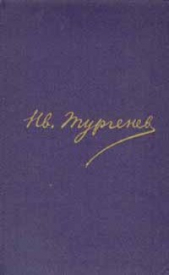Замогильные записки
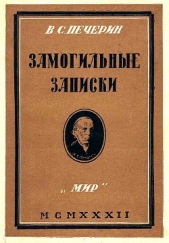
Замогильные записки читать книгу онлайн
Печерин Владимир Сергеевич — русский иезуит, эллинист; родился в 1808 г. Окончил курс в Петербургском университете, был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. В 1836 г. занял кафедру греческой словесности в Московском университете.
Тогдашнее положение вещей угнетало Печерина; он решился уехать из России. Для этого нужны были деньги. Печерин стал давать уроки, свел свои издержки на самое необходимое, избегал товарищеских собраний и, наконец, уехал, уведомив попечителя письменно, что не воротится в Россию. За границей Печерин некоторое время был домашним учителем, а потом сделался монахом иезуитского ордена, и очень ревностным.
В издание вошли мемуары Владимира Сергеевича Печерина «Замогильные записки», написанные в 60–70-е гг. XIX столетия. .
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка: совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jardin Mabile-м! [111]
Но я уж слишком заболтался, а капитан давно меня ждет. Камердинер отворил дверь: милости просим, пожалуйте. — Soyer le bienvenu!
Капитан Файот был человек лет 50-ти, хорошо вымытый и выбритый англичанин, в черном завитом парике.
На этом довольно обыкновенном лице сиял какой-то тихий отблеск милого простодушия и неистощимой доброты сердечной. Он принял меня очень, очень радушно, не смотря на то отвращение, с каким того времени англичанин должен был смотреть на небритого человека. Но капитан был выше этих предрассудков, тем более, что он принадлежал к радикальной партии и понимал значение бороды. В одном только случае он немножко спасовал и сделал маленькую уступку: к нему приехали из Англии какие-то родственники — долговязый Reverend [112] в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, и столь же длинная пожилая мисс. Тут он просил меня не приходить к нему в эту неделю. «Потому что, вы знаете, сказал он с милым замешательством: у них свои предрассудки». Он очень боялся, чтобы они не проведали, что он в близких отношениях с небритым человеком. С тех пор все переменилось в Англии. После Крымской войны борода вошла в моду и сделалась не только не подозрительною, но даже признаком чистейшей аристократической крови. Герцог Кембриджский носит прекрасную окладистую бороду, а у здешнего [113] вице-короля графа Спенсера огромная рыжая борода, как-то веером, точно как у какого-нибудь деревенского старосты. Когда-то у нас высшие чиновные классы перестанут бриться? — что Герцен назвал пошлым варварством. И действительно, в этом нам не перещеголять американских дикарей: они не только что бреют, но еще выделывают узоры на лице: вот вам бы еще до этого совершенства достигнуть. Наполеон I пророчествовал России всемирное владычество, когда у нее будет царь с бородою (un czar à barbe): кто знает? Бог даст, мы и до этого доживем!
Но довольно о бороде: теперь ее значение известно целому свету.
Капитан приказал камердинеру дать мне сюртук и рубашку. Сюртук, с позволения сказать, был не первой молодости — немножко потертый на локтях и с прорехами под мышками, но даровому коню в зубы не смотрят. Все ж таки я думал, что в этом наряде я имею вид порядочного человека, т.-е. présentable! Но я вскоре был разочарован. Нашелся какой — то добрый поляк, очень скромный и степенный человек в долгополом семинарском сюртуке, дававший разные уроки в городе, он принял во мне живое участие и отрекомендовал меня какой-то даме для английских уроков. Я пошел ей представиться. Она осмотрела меня с головы до ног, слегка улыбнулась — в глазах ее было написано по-русски: хорош гусь! а по французски она отвечала: «Очень хорошо, я за вами пришлю!» И никогда не присылала.
Капитан тотчас посадил меня за работу. «Да сделайте милость, пишите поразборчивее и самыми крупными буквами так, чтоб не трудно было читать». Бедный капитан! он думал, что в ложе так мало обращают внимания на его речи именно потому, что они не довольно четко переписаны. Я припомнил свои занятия в Временной Комиссии для решения счетов печатных дел прежнего времени у Синего моста, и принялся писать, не только канцелярскими, но даже евангельскими буквами. Сначала я работал в особенной комнате, но после он посадил меня в свой кабинет, на мягком комфортабельном канапе, заваленном бумагами и книгами. Это было раздолье. Иногда работы было немного — я читал какой-нибудь роман или чинил перья — точно какой-нибудь чиновник иностранной Коллегии. Так я проводил целые дни в тишине этого кабинета. На этом мягком канапе развились и созрели многие и многие мысли, из которых сложилась вся моя последующая жизнь.
А капитан сидел за своим бюро и писал, писал, все писал.
Капитан был человек популярный: к нему часто заходили по утрам знакомые посидеть, потолковать о том, о сем, особенно о политике. В то время в пущем разгаре был спор между либералами и католиками особенно по случаю предложения в палатах — выдать архиепископу мехельнскому 40 000 франков на первый подъем для получения кардинальской шляпы в Риме. «Ну, скажите! на что это похоже?» — говорил капитан: «народ должен платить 40 000 франков за одну шляпу для этого господина. Пойдите-ка на зеленый рынок: там сидят дюжие дебелые фламандские бабы, у них отличные шляпы с широчайшими полями — настоящие кардинальские: их стоит только перекрасить в красный цвет, и все это будет стоит несколько франков». — Вот этак капитан подшучивал над его высокопреосвященством. Во время этих бесед я держал свою позицию, т.-е. сидел, как столоначальник за своим столом с пером в руке; но, впрочем, принимал участие в общем разговоре и в бутылке хорошего бордо, каким капитан обыкновенно потчивал своих гостей.
Однажды пришел к нам вовсе неожиданный посетитель: толстый, приземистый, широкоплечий, смуглый, краснощекий, весь в прыщах, миссионер, с очевидным намерением обратить капитана в истинную веру. Капитан принял его очень учтиво, поднес ему стакан славного бордо и завел общий разговор о веротерпимости, христианской любви и пр. Миссионер был так заколдован любезностью хозяина, а может быть и его вином, что посидевши немножко и допивши свой стакан, он раскланялся и удалился во-свояси, не заикнувшись ни слова об истинной вере. Я внутренно хохотал, а вино в самом деле было хорошо. Капитан опять сел за свое бюро и писал, писал… Однако ж, пора вам сказать, что такое он писал. Произведения его не отличались оригинальностью: он просто вырезывал лоскутки из проповедей Блэра [114] да из передовых статей радикальной газеты: Weekly Despatch [115], сшивал их белыми нитками и потом давал мне выгладить утюгом и придать французский фасон; но я этим не довольствовался, а иногда на этом поле я сам от себя вышивал новые узоры, т. е., говоря без фигур, я вставлял в этот перевод целые фразы и тирады собственного сочинения и самого ярко-красного цвета. От этого происходили презабавные сцены в масонской ложе. Почтенные члены были вне себя от изумления, никак не могли понять, откуда взялась у капитана такая необычайная прыть. Некоторые даже нашли нужным серьезно ему заметить, что он слишком далеко увлекается своими революционными идеями. А он ни душой, ни телом не виноват. Все это было дело секретаря. Не правда ли, и у вас это иногда случается? — Он сам мне рассказывал об этих сценах не без некоторого самодовольствия, Это очень льстило его добродушному самолюбию, что его принимали за большого революционера. Наконец, по английской пословице, выпустили кошку из мешка (the cat out of the bag), тайна открылась и я сделался известным целому городу своим знанием французского языка. Этим, правда, не мудрено было блеснуть в Льеже, где даже газеты издавались каким-то безграмотным людом и отличались своею пошлостью и грамматическими ошибками. Зато уж я неусыпно трудился, изучая la Grammaire des Grammaires [116] так, чтоб не сделать ни малейшего промаху против правил языка. Вследствие приобретенной мною известности, пастор реформатской церкви — именно, помню, обратился ко мне с просьбою предпринять перевод книги Штрауса: Das Leben Jesu [117] — на французский язык. Я тотчас согласился по-русски, т. е. на авось, ни мало не принимая в соображение трудности этого предприятия. Когда я перевел один печатный лист, прежде нежели итти далее, нашли нужным посоветоваться с каким-нибудь сведущим литератором. Таковым считался в Льеже некто г. Фурдрен (Fourdrin), автор нескольких драматических пьес в романтическом роде. Он подал свое мнение: «Я полагаю, что это очень верно с подлинником; ошибок против грамматики нет; но все ж таки это не по-французски. Ce n’est pas français». — И он был совершенно прав. Такая книга, как Штрауса Leben Jesu, вовсе не переводима. Ее надобно передумать французскою головою, пересочинить и переложить на французские нравы, — что после и было сделано, кажется, г. Литре [118]. Несмотря на неудачу, пастор заплатил мне за этот печатный лист 20 франков — это было началом моего знакомства с Фурдреном; знакомство превратилось после в теснейшую дружбу. Фурдрен был отчаянный республиканец, но вместе с тем благороднейший человек во всех отношениях. Он выдумал средство помогать мне самым деликатнейшим образом, так что я долго даже и не подозревал, что от него получаю пособие. Но об нем поговорим позже. Он заслуживает особенной главы.