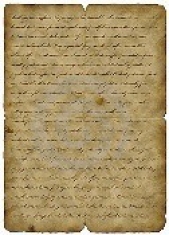Воспоминания об Александре Грине

Воспоминания об Александре Грине читать книгу онлайн
Александр Степанович Грин проработал в русской литературе четверть века. Он оставил после себя ро¬маны, повести, несколько сотен рассказов, стихи, басни, юморески.«Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей», — говорил он.Предвидение Грина сбылось. Он один из самых лю¬бимых писателей нашей молодежи. Праздничные, тре¬вожные, непримиримые к фальши книги его полны огромной и требовательно-строгой любви к людям.Грин — наш современник, друг, наставник, добрый советчик
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Игра сопровождалась таким отборным букетом матерной брани, при выигрыше и при проигрыше - безразлично, что я, как ни любил смотреть на игру, не выдерживал игрецкого красноречия и уходил, чтобы очистить уши от мерзостей блудословия.
Мне приходилось видеть круг, уставленный столбиками золотых монет, кучками серебра и внушительными стопками кредитных билетов. Ставили по пятьдесят, сто и более рублей «на удар».
Ритуал «удара», то есть метания высоко вверх медного пятака (или серебряного рубля) состоял в том, чтобы сей пятак вертелся вокруг оси (отнюдь не «бабочкой» - лишь трепеща, но не переворачиваясь); чтобы не крутился «винтом» (тоже уловка для того, чтобы монета упала «орлом» вверх); чтобы летел как можно выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».
Для проверки, для «счастья», наконец, просто по суеверию, каждый играющий мог поймать падающий пятак, удостовериться, что он «без фальши» - не «двух-орловый», не выбит выпукло, и вернуть его метчику с тем, чтобы тот метал заново.
Один игрок держал «банк», другие ставили; выпал «орел» - метчик брал все; выпала «решка» - всем платил, а если у него не было, то бежал прочь, преследуемый до изнеможения. Его, поймав, избивали, но в тот же день можно было видеть избитого вновь у круга; он, где-то раздобыв денег, играл, клялся, ругался и потирал свои синяки.
Кроме двухорловых пятаков пускались в ход шулерами пятаки, которые были просверлены по плоскости и залиты ртутью - ближе к «решке»; такой пятак на ровном песчаном месте ложился большей частью «орлом» вверх.
Иногда мальчишки, прицепив к пруту шлепок вара или смолы, просовывали удочку между ног игроков; шлепнув смолой по монете, жулик умыкал добычу бегом. Я отвлекся…
PAGE 78
Прожив дня три грошами, вырученными за продажу своей скудной одежды, я уже имел вид настоящего босяка: ситцевая рубашка, старый картуз, бумажные коричневые брюки, опорки на ногах - вот все, во что стал я одет.
Я ходил на биржу поденщиков, где иногда получал работу. От этих случайных заработков память сохранила мне очень немногое. Так, помню работу (два дня) на одном заводском дворе, в сараях; я с другим босяком прибрали их, вымели, таскали какие-то трубы, перевешивали с места на место весы, блоки - за шестьдесят копеек в день. Другой раз я работал недели две на забивании свай для вдающейся в море пристани; я очень жалел, что эта работа кончилась.
На настиле, проложенном по концам уже вбитых в дно моря свай, стояло сооружение из двух вертикально поставленных бревен; между ними на канате поднимался ручным воротом массивный кусок чугуна. Когда этот груз поднимали к самому верху бревен, он срывался и бил тяжестью сорока пудов по концу вбиваемой сваи, отчего та сразу понижалась на вершок и более.
Я вместе с другими крутил ворот. Плата была восемьдесят копеек в день, расчет по субботам. Подрядчик приносил деньги и четверть водки; мы выпивали по стакану водки и расходились.
Работать у воды было очень приятно, не так жарко, и, главное, работа была тихая, механическая и однообразная. День проходил незаметно.
Случалось мне также попадать на работу в док, где я соскребывал краску с пароходов или таскал тяжести около стапеля.
Мои усилия восстановить подробности этого года в Баку сходны с усилиями припомнить ускользающий сон.
Уже через несколько дней, как я поселился на квартире старика грузчика, второй его жилец (мы спали с ним на полу), тоже грузчик, повел меня выгружать лес с большой шхуны. В длину трюма были нагружены толстые бревна; их вытаскивали через квадратный люк кормы, устроенный возле руля. На этой страшно тяжелой работе я пробыл только четыре дня, после чего еле двигался от ломоты в крестце, ногах и плечах, - а платили неплохо: рубль двадцать копеек в день.
Вскоре мне пришлось оставить квартиру. Сожитель мой, грузчик Василий, был тяжелый, неразговорчивый человек, с темным лицом и ненормальными глазами;
PAGE 79
он был скуп, копил деньги и разговаривал мало, с трудом, слегка заикаясь.
Как- то в субботу Василий пришел вечером подвыпивший, чего с ним никогда не было; принес четверть водки, закуску и начал угощать хозяина. Они пили, пели, кричали, а вскоре Василий пригласил и меня; хозяйка тоже осушила стакан водки, после чего легла спать. Старик так напился, что падал на стол. Наконец, уже после двенадцати, он свалился спать в угол, без подстилки, а я лег на свое место; Василий тоже улегся, и лампа была притушена.
Мне не спалось. Я боролся с клопами и подремывал. Начав забываться, я очнулся: Василий лег на кровать к хозяйке, она, тихо голося, гнала его прочь. Эта милая сцена продолжалась несколько минут, после чего, уто-мясь уговаривать пьяного, бабенка повернулась лицом к стене, а Василий вполз на край кровати, лег и притаился. Должно быть, он пытался каким-то образом декларировать свою неутоленную страсть младенцу, спавшему между ним и женой старика, потому что вдруг раздался отчаянный визг малютки и вопль разъяренной матери:
- Да ты что делаешь, подлец, мерзавец этакий?!
Столкнутый женщиной, Василий упал на пол. Старик проснулся; видя, что все вскочили, что-то смутно чувствуя, он впал в бешенство, схватил табуретку и кинулся на меня.
- Стой, стой! - закричал я. - Не там ищешь! Старик бросился к Василию. Но тут сбежались
жильцы, грузчика выволокли за ворота, выбросили ему его сундучок и начали бить, бить зверски - ногами, кулаками, камнями. И, когда он поднялся, на нем висели одни лохмотья, и глаз не было видно.
Пошатываясь, Василий ушел, грозя кулаком, а дня через три хозяйка, в отсутствие мужа, сказала мне: «Знаешь, Лександра, съезжай и ты с квартиры; муж меня бьет - то на Василия думает, то на тебя».
Вечером я толково поговорил со стариком, убедил его в своей непричастности к мрачной истории, но из квартиры ушел, чтобы не тревожить ни себя, ни хозяев.
Пока было тепло, я ночевал где придется: в пустых котлах, лежавших возле заводов, на лесной пристани, под опрокинутыми лодками или просто где-нибудь под забором.
PAGE 80
С наступлением холодных ночей я отправился, как ни противно мне это было, в ночлежный, благотворительного общества, дом. Плата взималась троякая: пять копеек в общей комнате, десять копеек в комнате тоже общей, но почище, и двадцать копеек в так называемой «дворянской», где были отдельные комнатки с бельем и одеялом. Но я ночевал за пятачок.
В длинном помещении стояли ряды деревянных коек, накрытых камышовыми циновками («чакошками»). Ни «чакошки», ни койки, конечно, не мылись, а поэтому грязи и клопов было довольно. Двор неимоверно вонял, посреди него без всякого прикрытия устроены были над залитой асфальтом ямой цементные дыры для нечистот. Запах карболки, хлорной извести и мочи резал, как нож.
Ночлежники входили через каменную постройку, где была чайная и хранение вещей. Чайной заведовал странный тип, по-видимому не совсем нормальный, - из «административно высланных»; русый, с бородкой и мерзко-хитрым лицом, человек этот рылся в моем мешке, который лежал у него на «хранении» в ящике. Продав корзинку, я завел мешок, куда прятал остатки своих тряпок и тетрадь. В ней пытался вести дневник. Единственно помню, что я записал, между прочим, впечатление от одной фотографии, выставленной в витрине: фотография была снята с очень милой, серьезного типа девушки, и, кажется, я трактовал положение, что видеть такие лица - «облагораживает» человека. Так вот, этот заведывающий чайной начал в обычной площадной манере издеваться над моими размышлениями. «Неземная красота, - говорил он, нагло смеясь, - ангельская наружность! Влюбился в фотографию!» И тому подобное. Как, взбешенный, ни ругал я его за то, что он лазил в чужой мешок, как ни стыдил его, говоря, что нельзя, позорно читать чужое, интимное, - он не смутился нисколько.