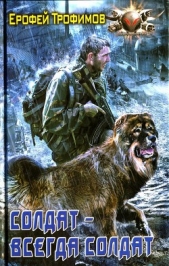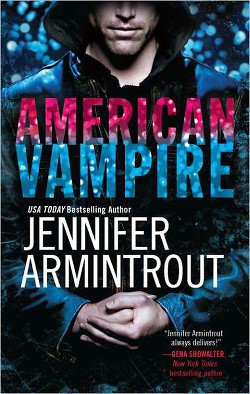Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве

Так затихает Везувий. Повесть о Кондратии Рылееве читать книгу онлайн
Книга посвящена одному из самых деятельных декабристов — Кондратию Рылееву. Недолгая жизнь этого пламенного патриота, революционера, поэта-гражданина вырисовывается на фоне России 20-х годов позапрошлого века. Рядом с Рылеевым в книге возникают образы Пестеля, Каховского, братьев Бестужевых и других деятелей первого в России тайного революционного общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Говорят, что во всей этой истории самое настойчивое и энергическое участие принимали известный мне заочно Рылеев и князь Евгений Оболенский.
Такова великосветская история. А вот и департаментский вариант. Некий мелкий чиновник за дебош, в каком он ни сном ни духом не повинен, был посажен в сумасшедший дом, где безвинно просидел более полугода, пока по случайности об этом не рассказали офицерам-доброхотам. В ход были пущены все связи, дело дошло до сиятельного Потоцкого, и лишь тогда несчастный очутился на свободе.
И, наконец, беру выше. Понадобилось участие императорской фамилии. Другой чиновник, отец большого семейства, просидел на гауптвахте по ложному доносу шесть лет. Шесть лет в ожидании суда! Такие же доброхоты, не имеющие отношения к ведомству, запрятавшему страстотерпца на гауптвахту, подняли на его защиту Федора Николаевича Глинку, адъютанта Милорадовича и известного поэта. Но и сам Милорадович не мог освободить заточенного. Потребовалась записка от великого князя Николая Павловича, чтобы генерал-губернатор Милорадович смог освободить невинного. Говорят и даже умиляются тому, что губернатор сильно сокрушался и повторял: «Что у нас делается! Что только делается!» А у кого это у нас? В подведомственной тебе столице!
Истории эти с благополучным концом, и говорят о них как о счастливых исключениях. Но ведь таких превеликое множество. О них молчат. Не у всех, скорее почти ни у кого из обездоленных нет возможности достигнуть со своими бедами лиц высокопоставленных. А если бы и была таковая, то гуманным доброхотам, пришлось бы бросить свои дела и ринуться в сражение со всеми, кто творит суд неправедный. Потянув за эту ниточку, начав распутывать все беззакония и злоупотребления властью, они дошли бы до таких высот, что, пожалуй, и самим головы не сносить.
Пишу о бунте Семеновского полка, о бессмысленных беззакониях наших судов и чиновников. Пишу историю, до которой, быть может, никогда не дотянется перо историка. А если и дотянется, то не по свежим следам, а по легендам и мифам.
Зачем?
Сисмонди, говоря о пользе истории, замечает, однако, что мало привлекательности в ней, если человек убежден, что, узнав истину, он не сможет привести ее в исполнение. Заранее известно, что ни он, ни ему равные не имеют никакого влияния на судьбу народов. И люди предпочитают лучше оставаться в неведении и слепоте, чем открытыми глазами наблюдать, как ведут их к бездне. Поэтому народы, не пользующиеся свободой и не уповающие на нее, никогда не имеют истинной наклонности к истории. Иные не сохраняют памяти о событиях минувших, как турки и австрийцы, иные, как арабы и испанцы, ищут в истории одну суетную пищу воображению — чудесные битвы, великолепные праздники, изумительные приключения. А все остальные вместо истории народной имеют историю царскую. Для царей, а не для народа трудились ученые, для них собрали все, что может льстить их гордости, они покорили им прошедшее, потому что власть над настоящим для царей недостаточна.
Для кого же я пишу? О, не для печати! Не сносить мне головы, если заметки эти увидят свет при моей жизни. Но, может быть, когда-нибудь, во времена лучшие, сильный и молодой летописец, едва ли сын мой, которого пока что нет, а вернее, ученик расскажет нашу историю в мелких подробностях и случаях, подобных анекдотам, кропотливо собранным за монастырской кадетской стеной.
Сегодня, проходя по саду, заметил двух кадет, валявшихся в кустах в вольных позах с расстегнутыми воротниками и горланивших песни. Они были уверены, что их никто не видит и не слышит. Но что они распевали! Правый боже! Если б об этом узнал директор, после неизбежной экзекуции несчастных отправили бы прямо в лазарет, и оттуда они нескоро вернулись бы.
А куплеты недурны. Стоит записать:
Хотел бы я знать, сами они сочинили или, может, давно ходят по нашей столице такие куплетцы. Остановился за кустами, чтобы услышать продолжение, но озорники начали бороться, кататься по траве и хохотали, как безумные. Счастливый возраст! Какой, однако, сделало скачок время. Лет пять назад мысли мои, записанные в потаенную тетрадку, казались крамольными, принадлежащими единственному вольнодумцу, самому мне. Ныне любой молокосос без стеснения стаскивает священные покровы с Благословенного. Впрочем, впервые их сорвал Пушкин, написавший: «Ура! в Россию скачет кочующий деспот. Спаситель горько плачет, за ним и весь народ». Благословенный прикатил тогда с Аахенского конгресса, где показал себя послушным учеником Меттерниха, верным союзником Бурбонов, Габсбургов и Гогенцоллернов, напрочь покончив с легендой о царе-реформаторе.
К вечеру сего дня я узнал, что готовится государем указ о запрещении всех тайных обществ. Об этом мне рассказал Ригель, один из наших воспитателей. Человек сдержанный, замкнутый, казалось бы не интересующийся ничем, кроме своих обязанностей, он говорил, с трудом скрывая негодование:
— Этого давно надо было ждать. Помните, по Петербургу ходили стихи Катенина? То ли его, то ли перевод французской революционной песни:
Катенин немалую роль играл тогда в тайном содружестве, называемом «Военное общество».
— Так ведь это когда еще было!
— Верно. Давно. Но мне тогда еще сказывали, что государя очень беспокоило существование тайных обществ. А когда министр двора граф Петр Волконский пытался его успокоить, он сказал: «Ничего-то ты не понимаешь. Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении. К тому же они имеют огромные средства. В прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды». И верно, Якушкин, Михаил Муравьев, Фонвизин, Бурцев весьма проворно собрали средства и, минуя правительство, уберегли от голодной смерти тысячи людей.
— Но почему же тогда не запретили тайные общества? Чего он убоялся?
Ригель развел руками.
— Верно этого самого «общего мнения». Генерал Ермолов, увидев одного из членов некоего тайного общества, расхохотался и сказал: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но одно скажу: он (это государь-то) вас так боится, как я хотел бы, чтобы он боялся меня».
— Но какие же все-таки у нас тайные общества? — спросил я. — Карбонарии?
— Карбонарии — это театральщина. Клятвы, подписи кровью — смерть за разглашение тайны. Это не в русском вкусе.
— А что же в русском?
— Цель.
— А разве у итальянцев не было цели?
— Там другое. Избавиться от австрийского ига. Завоевать независимость. А мы…
Он не договорил, а я не решился дальше расспрашивать, боясь спугнуть своим любопытством его откровенность. И правильно поступил. Видно, что-то скопилось, накипело у него на душе и рвалось наружу. В такие минуты подталкивать исповедь опасно.
Он продолжал:
— Мы хотим большего. Представительного правительства. Конституции…
— И вы думаете, что ее поднесут по вашей просьбе, как хлеб-соль, на золоченом подносе, покрытую вышитым рушником?
— Нет. Не думаем. За свободу всегда надо бороться. Ее не дарят.
Мне уже становилось ясно, что он сам участник такого тайного общества, и только нельзя понять, вольно или невольно он проговаривается. Продолжая ту же игру, как будто я понимаю все или, напротив, ничего не понимаю, я сказал: