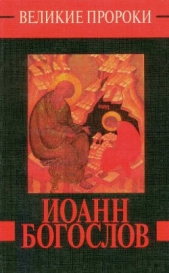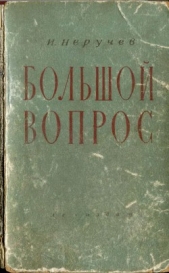Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине

Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине читать книгу онлайн
Натан Эйдельман — писатель, историк. Он автор книг «Лунин», «Пушкин и декабристы», «Герцен против самодержавия», «Тайные корреспонденты «Полярной звезды», «Твой девятнадцатый век» и многих исторических, литературоведческих работ, документальных очерков. В серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями вышла повесть «Апостол Сергей» (о С. Муравьеве-Апостоле).
Новая книга Эйдельмана посвящена Ивану Ивановичу Пущину, одному из видных деятелей Северного общества декабристов, лицейскому другу Пушкина. В своеобразной форме дневника, который герой книги ведет в конце жизни, автор представляет яркую и сложную биографию Пущина, его участие в декабрьских событиях 1825 года, рисует привлекательный облик человека, стойкого, мужественного борца, не теряющего присутствия духа в самых сложных ситуациях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой наказ братцу был прост: в Измайловском по меньшей мере рота — не присягнет. Надо думать, это подействует на других. Но с тебя хватит и роты: примкнешь к ней с эскадроном, возьмешь пушки и явишься, куда скажем (11-го мы уже почти решили, куда являться, но я брата не стал смущать, ибо излишек сведений обычно хуже, чем недостаток оных).
На том и ударили по рукам, вернулись в отчий дом. Сестры и батюшка — во все глаза за мною. Что-то угадали али подслушали?
Выходило — сам рискую и брата втягиваю (да еще и младший брат Николенька — в опасном возрасте и настроении).
В общем — гублю семейство. Но если начинать, Евгений, с кого же, как не с себя и своих?
В этом пункте, думаю, я был прав — да не прав в другом: мало сердца!
Батюшка, которого я полагал (прости, господи!) едва ли не за дикого, первобытного своими понятиями человека, сенатор-то мой и генерал, Иван Петрович Пущин, после, когда и меня и Михайлу упекли — на последнем свидании ни слова упрека не вымолвил; даже скрытой горечи или обиды мы не услышали — только глубочайшую печаль.
Следовало все же почувствовать, что никогда более не свидимся (то есть Михайло-то еще успел проститься). Я же 10, 11 декабря только расспрашивал и расспрашивал отца насчет сенатских настроений, выпытывал — есть ли самостоятельные мнения: «Неужели спокойно присягнете Николаю, когда только что не пожелали ему присягать, несмотря на ясно выраженную волю покойного государя?»
— Да что же нам делать?
— Обеспечить невозможность подобных казусов.
— Да как же?
— Установлением твердых законов и ограничением своеволья.
— Это кого же, сынок, ограничивать? Самодержца? Так он же нам неподвластен по самой природе своей.
— Да, отец, ограничить — в его же пользу; чтобы решал не случай, а верное правило…
У батюшки было такое лицо, что я поспешил разрядить грозу:
— Ну, пошлите хоть две грамоты от Сената: одну — Константину, другую — Николаю, а в каждой всего несколько стихов:
— Вот что я тебе скажу, Ваня, — тихо, после молчания объявил отец. — Знаешь ли, что мне ответил мой зять, а твой друг Иван Александрович, когда я его просил — не распекать столь крепко своих обер- и штаб-офицеров: «Нельзя, батюшка, нельзя! Государь мне за то платит, чтобы я распекал майоров. А будет платить за то, чтоб не распекал — тогда изволь, тогда изволь!»
Генерал-лейтенант И. А. Набоков, женатый на Екатерине Ивановне Пущиной, возглавлял, между прочим, одну из комиссий по разбору южного восстания декабристов. Но вот загадка природы человеческой! При всех своих убеждениях Набоков опального родственника жалел, любил, хлопотал etc. etc. E. Я.
И понял я, что сенаторы ограничат самодержавную власть только тогда, когда она, эта власть, сама им прикажет!
А вечером, докладывая обо всем этом Рылееву, слышу в ответ:
— Очень хороню, что Сенат столь пассивен и послушен: он и сделает, что мы прикажем.
Якубович подхватил:
— Кто палку взял, тот и капрал…
Но Николай Бестужев заметил, что храбрый кавказец не знает сей поговорки полностью. Вот она:
Кто палку взял да раньше встал, тот и капрал…
Впрочем, я забежал в моей повести вперед, до вечерних дел черед дойдет.
Вернемся к утру, когда выхожу я на мороз, гляжу на притихший город, где уже две недели не слышно военной музыки; и вроде бы маленький человек, коллежский асессор, но кто знает, может быть, через несколько дней эти дворцы, каналы, громады нам подчинятся! Были, Евгений, были и подобные мысли. Но я не о том сейчас.
10 декабря — точно помню, что на второй день, — направил я стопы на Фурштатскую, где квартировали Яковлев и Стевен. Кроме понятного желания повидать лицейских моих скотобратцев желал я урвать поболе городских слухов (в таких делах Паяс мой, Михайло Лукьянович Яковлев, незаменим!). К тому же была мысль — вдруг как-нибудь укрепить наше Дело с «лицейской стороны».
Неизбежный лицей — как говаривал наш директор Егор Антонович.
Некоторые мысли и анекдоты, приобретенные во время того свидания, я коротко на бумажку записал — и после ее, каким-то чудом, при мне оставили (вернее, даже если б и нашли, то ничего б не поняли за краткостью). Ту бумажку я в своем первом каземате наизусть заучил, а затем, в Шлиссельбурге, вдруг принимался слово за слово повторять да еще подкреплять воображением — и однажды так забылся, что поспешил прочь из камеры, чтобы прибавить перцу в одну нашу с Яковлевым перепалку. Поспешил да уперся в дверь: честное слово, совсем про нее забыл! Бумажка-то истлела, а сцену помню.
Вхожу — оба господина дома, Яковлев (Иаковлев тож) и Фрицка Стевен — Швед: объятия, расспросы, лицейское языкоблудие.
— Зачем приехал?
— К батюшке в отпуск.
Но Паяса не проведешь: знает, что не та на дворе пора, когда в отпуск свободно ездят, а ему ведь не соврешь, как князю Дмитрию Голицыну, что батюшка тяжело захворал: он, Миша, что ни день — в Сенате вертится. Не успели мы усесться и приняться за трубки, как Яковлев — в атаку:
— Ты не знаешь внутренних происшествий…
Далее он все больше потчевал меня новостями, Фрицка же, по обычаю, все больше молчал, только изредка одобрительно хрюкая.
Трио наше было приблизительно таким:
Пущин: спрашивает обо всех лицейских.
Яковлев: жалеет, что Пущин не зашел чуть раньше: только что забегал «оригинал Вильгельм», очень важный, таинственный, и знаешь ли — впервые он парировал мое нападение; снисходительно выслушал мои новые изобретения по его фамильной части — Кашелькхекер и Щихлебакер. По-моему, не так уж и худо? Даже Фрицка улыбнулся одною губою. Так представь, Жанно, Кюхля в ответ положил мне руку на плечо и говорит:
«Возможно, Паясик, в последний раз видимся. Вот тебе предмет для пародии!»
Яковлев признался, что растерялся, — только и нашелся, что пропел старинно:
Пущин, однако, сразу разглядел, в чем дело: хоть и не видел еще в этот приезд Вилю, да по реплике Рылеева догадался, что Кюхля, так сказать, перешел Рубикон.
Однако Яковлев мой, без сомнения, тоже смекнул насчет заговора. Посему: опасаясь Мишиных излишних расспросов, я быстро рассказываю последний анекдот, чем открываю шлюзы и вызываю наводнение.
Пущин: Московский пьяница полицмейстер Обрезков, присутствуя на пожаре, возглашает: «Воды!!», а пожарные ему: «С вином?»
Яковлев: Ты слыхал последнее распоряжение Александра? Не угощать священников более чем одной рюмкой водки, а попадьям и поповнам носить особливые одежды, дабы, встретив юное создание об руку с батюшкой, никто бы не имел мыслей соблазнительных.
Пущин: пытается вставить слово, не успевает.
Яковлев: На станции сходятся три фельдъегеря. Один, из Тобольска, швыряет подорожную именем Александра. Другой, из Питера, именем Константина. Третий, из Варшавы, именем Николая.
Стевен (внезапно): Моей племяннице всего месяц, а уж при третьем императоре.
Яковлев: пытается вставить слово, не успевает.
Пущин: Да побойся бога, ведь еще не было присяги — вдруг Костиньку переупрямят?
Яковлев: Ты же не знаешь внутренних происшествий…
И тут Паяс изобразил междуцарствие.
Мы знали, что он «Паяс 200 персон» — хотя иная персона была многоликой. До сей поры высшей доблестью Миши было изображение знаменитого гречева журнала «Сын Отечества», а также семейства нашего ненавистного педеля г-на Гауеншильда.
Однако, поглядев междуцарствие, я орал сквозь слезы:
— Умри, Денис!