Московские тюрьмы
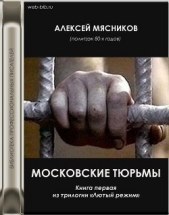
Московские тюрьмы читать книгу онлайн
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.
Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.
Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «Лютый режим». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…
Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В комнате снова люди. «А это кто?» «Это понятые», — Боровик показывает на молодую пару, окаменевшую у порога. «А это?» — киваю на субъектов, роющихся в ящиках письменного стола, в папках, на полках с книгами. «Это мои помощники» — буркнул следователь и отошел к столу, где высокий средних лет интеллигент с импозантной проседью, в спортивном синем пиджаке с белыми металлическими пуговицами вытряхивал ящики с видом хирурга у операционного стола. Наташа убрала постель, села на кровать рядышком, бледная — смотрит на меня. А я и сам ничего понять не могу.
Было кое-что в последние три-четыре недели. Несколько вызовов в милицию наших глухонемых соседей Александровых. Они писали нам на листочках, что показывают им какие-то фотографии, водят куда-то на опознание. Но ни слова, чтоб это имело к нам отношение. Пару раз в рабочее время звонили в дверь какие-то люди. Откроешь — на лице удивление, и тут же исчезают. Однажды открываю на звонок — стоит милиционер, спрашивает Александровых. Чего их спрашивать — они днем всегда на работе. И форма такая новенькая и будто не с его плеча, и круглое лицо светлей и осмысленней, чем обычно у милиционера. Очень похож вон на того, лысоватого, в сером костюме, который перебирает сейчас книги на полках. А недавно приходим с Наташей домой — у комнатной двери щепки, около замка косяк отодран, но дверь заперта. Вызвали участкового. В комнате вроде все на месте, никаких следов.
Открыть не смогли? Но кто? Все это озадачило, но не более — всякое бывает в городе. Неделю назад другой сосед, Величко, с которым мы давно не общаемся, вдруг по пьянке разговорился на кухне. Оказывается, на работе, в Курчатовском институте, его вызвали в первый отдел, и какие-то люди дважды брали у него ключи от квартиры. Якобы для наблюдения из его комнаты за дорогой. «Тебе это ничего не говорит?» Я отмахнулся: ничего. «Убери на всякий случай все лишнее», посоветовал Величко. Это могло относиться только к одному тексту, написанному три года назад по поводу обсуждения проекта новой Конституции. Спрятать? Сжечь? А зачем? Голову ведь не спрячешь, этот текст уберу, завтра новый напишется. Я не стесняюсь того, что думаю, и готов отвечать за каждое свое слово. Если кому интересно, пусть читают. Текст не опубликован, все четыре экземпляра машинописной закладки дома, распространения нет — значит, нет и преступления. Так по закону. А если не по закону, и подавно нет смысла прятаться — все равно сделают, как захотят. Не верилось, чтобы я или мои писания представляли серьезный интерес для госбезопасности.
И все-таки они пришли. Почему именно сегодня? Что их принесло? Спросонья я не рассмотрел постановление — по какому делу, на каком основании обыск?
— Можно еще взглянуть на постановление?
Боровик снова достал бумагу. Там значилось, что обыск производится по делу номер такой-то.
— Что это за дело?
— Разве не видите: номер такой-то.
— А конкретнее?
— Распространение антисоветских материалов. Боровик ехидничал, большего от него добиться было нельзя. А должен был ответить, чье это дело и с чем конкретно связано. Так я и не узнал формального основания для обыска, но что они ищут — догадаться было нетрудно. Кажется, они не хуже меня знали, где что лежит.
— «Голос из тьмы»! — оживился интеллигент в синем пиджаке. Он вскрыл папку с рукописью начатого философского сочинения.
— Из какой такой тьмы?
— Не из той, на какую думаете.
С первых же строк он разочарованно замолчал. «Мы пришли ниоткуда и уйдем никуда. Из тьмы небытия, из сумерек детства разгорается свеча нашего сознания…» — трудно углядеть намек на тьму развитого социализма. Первая глава о смысле жизни. Пусть нет в Союзе ни тьмы, ни ночей, пусть вечный день и белые ночи, «надо мной небо синее, облака лебединые» — ничто в тексте не мешало так думать и петь, но я содрогнулся при мысли: а что, если б было что-нибудь вроде «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? Этого не было. Тем не менее «Голос из тьмы» отложен в сторону. Из-под косметических коробочек Боровик вытаскивает какие-то листики, разворачивает, внимательно читает. Я узнаю свою давнишнюю записку Наташе, лирический, так сказать, анализ наших взаимоотношений, — стыд-то какой! «Простите, это не относится к тому, что вы ищете», — забираю записку и рву. Отвратительное ощущение, будто чужие пальцы змеятся по голому телу. Нет сил смотреть. Порываюсь выйти на кухню. Не пускают. «Но мы не завтракали». Пока нельзя. «Но в туалет, в конце концов». Боровик нехотя разрешает. Меня сопровождает спортивный молодой человек. Я умываюсь — он у дверей. Я к унитазу — он требует не закрываться. Пьем чай с Наташей — он рядом стоит. «Хотите чаю?» Отказывается. Личная охрана — высокая честь. Так и подмывало послать за пивом. Наташа пошла в ванную одеваться.
— Куда вы ее забираете?
— Мы не забираем, а приглашаем.
Говорят, в прокуратуру. Две черные «Волги» за окном. Наташа мне: «Я всегда с тобой». Целуемся, Увидимся ли? Время — девять.
Остался один с компанией. Круглоголовый, с залысинами, все время кого-то напоминает: то милиционера, то однокурсника с философского — может, и есть один в трех лицах? Он высыпает из двух бумажных мешков почту «Литературной газеты». Готовился обзор читательских откликов на нашу дискуссию о трудовых ресурсах. Боровик откопал в папках что-то «для служебного пользования»: «Секретные материалы! Почему дома? Кому передавали?» Сейчас шпионаж приклеят. Это старые планы социального развития предприятий да методика изучения текучести кадров. Бог весть откуда и для чего на них гриф? Что секретного, например, в том, какой доход на члена семьи, сколько жилья на человека и почему люди бегут с предприятий? Скорее гриф от смущения: социология пока для многих руководителей нечто вроде «поэзии», вроде бы не пристало серьезным людям — боятся гласности, чтоб не засмеяли. Материалы с грифом отложены в стопку, предназначенную для изъятия. На безрыбье и рак рыба — скучный обыск.
— Книги из воинской части! — нарушает хмурое молчание круглоголовый. Несколько томов Гегеля издания 30-х годов, списанные на сожжение и отданные мне библиотекаршей в части, где я когда-то служил. Покрутили, поставили обратно на полку. Американская «Социология» на английском языке показалась подозрительнее солдатского Гегеля — ее взяли. Отложили ржавую рапиру, охотничий нож. Холодное оружие, что ли? Но вот и то, за чем они пришли: интеллигент достает в одной из папок рукопись «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция». Короткое совещание с Боровиком и круглоголовым, и интеллигент, тряхнув импозантной проседью, торжественно лучится на меня: «Вы говорили, что у вас нет антисоветских материалов, а это что?»
— Я не считаю рукопись антисоветской.
— Явная клевета.
— Дальше можете не искать, ничего больше для вас интересного.
— Надо было сразу отдать, но вы не захотели, — возражает Боровик. — Теперь мы все посмотрим.
Дорывают вторую тумбу письменного стола, лезут в бельевой шкаф, потрошат папки и книги. Стопа изъятого пополняется новыми тетрадями, рукописями, конспектами, записками и даже дневниками.
«Что здесь написано?» — хмурится Боровик и протягивает мне листок с беглыми неразборчивыми записями. Помню, набрасывал тезисно планчик к критике социализма, он так и озаглавлен сокращенно «К крит. соц-ма». Боровик не разберет слово «крит.»: «Это нецензурное слово? Что оно значит?» Не стал я бросать собаке кость, тоже не разобрал, чтобы не было лишних вопросов. Но как дотошны: всякую блоху выискивают, «Народ — говно, дети — говно», — качает головой интеллигент, цитируя какую-то отчаянную строчку из дневника. Да, так можно кое-чего наклевать. Раздевают догола и говорят, как мне не стыдно.
Дивлюсь я на этих ребят! Им, как и мне, где-то между 30–40. Вроде не дебилы. Боровик, правда, простоват, но круглоголовый и особенно этот, в синем, явно не глупы, неплохо ориентируются в бумагах. В иной обстановке, случись с кем-то из них познакомиться, совершенно спокойно могли бы говорить о том, о чем я пишу и что они сейчас изымают. В частных беседах от них такого наслушаешься: все видят, все знают, все понимают. Как человек, должно быть, приятен, начитан, умен. Дома, наверное, жена и детишки на него не нарадуются: хороший муж и отец. Неужто одного он в этой жизни только не понимает: что он сейчас ищет? Почему не стыдно ему? Не похоже, чтоб испытывал недоброе чувство ко мне. Шарит спокойно и преисполнен достоинства, как человек, который добросовестно выполняет свой долг. Такая работа. За это платят, и он отлично знает, что нужно его хозяевам. Он может ничего не иметь против того, что считается антисоветчиной, да сам в душе может быть больший антисоветчик, чем все диссиденты вместе взятые, — ему на это плевать. Нужно есть, пить, прилично одеться, содержать семью, иметь положение в обществе — это главное. Ради этого он делает все, что прикажут. В жизни — один человек, на службе — другой. В жизни, может быть, добрее не сыщешь, на службе — злее собаки. И совесть его спокойна. Не он, так другой. И может, тешит себя, что другой был бы хуже, а он все же деликатнее грабит. Скажите спасибо. И оправдает себя — он выполняет приказ. Солдат не виновен — офицер приказал, офицер не виновен — генерал приказал, генерал не виновен — он подчиняется Фюреру. Так оправдывались гитлеровцы, фюрера не стало, и нет виноватых в самой кровавой бойне в истории, никто не виновен из тех, кто истреблял тысячи жизней и сеял смерть. Они выполняли служебный долг — удобно и никаких угрызений. Так оправдывается любое зверство и любое насилие. Всегда есть на кого списать, а самому умыть кровавые руки.

























