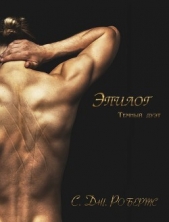Дневник моих встреч

Дневник моих встреч читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Юрий Павлович Анненков (1889–1974) последние полвека своей жизни прожил за границей, во Франции. Книга «Дневник моих встреч» — это воспоминания о выдающихся деятелях русской культуры, со многими из которых автор был дружен. А.Блок, А.Ахматова, Н.Гумилев, Г.Иванов, В.Хлебников, С.Есенин, В.Маяковский, М.Горький, А.Ремизов, Б.Пастернак, Е.Замятин, Б.Пильняк, И.Бабель, М.Зощенко, Вс. Мейерхольд, В.Пудовкин, Н.Евреинов, С.Прокофьев, М.Ларионов, Н.Гончарова, А.Бенуа, К.Малевич и другие предстают на страницах «Дневника...», запечатленные зорким глазом художника. Рядом с людьми искусства — государственные и партийные деятели первых лет революции, прежде всего Ленин и Троцкий.
Настоящее издание дополнено живописными, графическими и театральными работами Ю.П.Анненкова 1910-1960-х годов. Многие из них никогда ранее не публиковались. В «Приложение» включены статьи Ю.П.Анненкова об искусстве. В России они публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Леонид Андреев
К вечеру, когда спадала жара, Горький приступал к своей излюбленной игре — в городки. Он бил размашисто и сильно, разбрасывая чушки с завидной ловкостью, и почти всегда выходил победителем. Его партнерами часто бывали Леонид Андреев, Александр Куприн и Иван Рукавишников.
Веселость и юмор, общительность и склонность к широкому укладу жизни сохранились в нем навсегда.
Два-три раза в неделю, по ночам, на мызе Лентула устраивались фейерверки. К забору сходились дачники и местные крестьяне финны.
Однажды вечером (это было в 1904 году), когда уже стемнело, Горький вышел на лужайку и вырвал из земли уже заготовленные ракеты.
— Сегодня фейерверка не будет: умер Чехов, — произнес он, и вдруг по его лицу пробежала судорога, и он поспешно скрылся в свою комнату.
Горький часто не мог сдержать своих слез. В воспоминаниях юности он утверждал, что плакал лишь в тех случаях, когда оскорблялось его самолюбие. Так было, вероятно, только в юности. Я видел Горького плачущим четыре раза: впервые при вести о смерти Чехова; потом, все еще в Куоккале, в дачном кинематографе, когда по ходу мелодрамы собачка стрелочника, заметившая, что его маленький сынишка уснул на рельсах, с лаем и рискуя своей жизнью помчалась навстречу поезду, чтобы предупредить катастрофу.
— Я очень выгодный зритель, — извинялся Горький при выходе из кинематографического барака.
В третий раз я слышал всхлипывания Горького в Смольном институте, на одном из первых съездов Советов, в момент, когда запели «Интернационал». В последний раз — в Петербурге, на Финляндском вокзале, когда в 1921 году Горький уезжал за границу. Я был в числе немногочисленных провожатых. Начальник станции шепнул Горькому, что машинист и кочегар хотели бы с ним познакомиться.
— Очень счастлив, очень счастлив, — забормотал Горький, пожимая черные руки рабочих, и зарыдал.
О слезливости Горького писал и Владислав Ходасевич в своих воспоминаниях: «Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого нового рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманенных очков».
В годы первой революции, годы Гапона, Христалева-Носаря и Трепова, мы, подростки, увлекались романтикой подполья и революционной борьбы. За полудетское революционное озорство я был уволен из гимназии и не без гордости рассказал об этом Горькому.
— Молодчага, — одобрил он, — так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь.
Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решетками на окнах, и прибавил:
— Этот будет почище!
Заглавие его будущей книги — «Мои университеты» — было уже произнесено.
В 1940 году в советской России вышел фильм «Мои университеты» в постановке М.Донского. Но наибольшим успехом пользовался фильм, поставленный Всеволодом Пудовкиным в 1926 году по роману Горького «Мать». Этот фильм до наших дней сохраняет свою свежесть, силу и человечность, в чем, конечно, заслуга принадлежит не только Горькому, но и Пудовкину.
В Париже еще в 1905 году (12 октября) была впервые представлена на французском языке пьеса Горького «На дне» (см. главу о Евг. Замятине), а 27 декабря 1963 года в парижском Национальном народном театре (TNP) состоялась премьера пьесы Горького «Дети солнца».
Одновременно с увлечением революционной борьбой, и может быть еще искреннее, мы увлекались французской борьбой, процветавшей на цирковых аренах. Горький охотно бывал судьей наших состязаний и непременно наделял их участников особыми кличками. Мне, постоянному финскому жителю, было присвоено прозвище Гроза Финляндии. В одно из таких состязаний мой противник, черноволосый и смуглый гимназист, Альфонс XIV — Испания, сжал мое горло и принялся душить. Я с удовольствием лег бы на обе лопатки, но лечь оказалось так же трудно, как и вырваться. Не в силах даже крикнуть, я приготовился к смерти и потерял сознание. Очнувшись в руках Горького, я услышал:
— Гроза Финляндии, встряхнись!
И, обратившись к Альфонсу XIV — Испания, Горький заявил тоном судьи:
— Здесь, ваше величество, французская борьба, а не бой быков: приканчивать противника необязательно.
Наш герой, чемпион мира Иван Поддубный, тоже приезжал на мызу Лентула. За обедом, съев три бифштекса, он решил пофилософствовать:
— В России, — сказал он, — есть три знаменитости: я, Горький и Вяльцева.
Горький отозвался с полной серьезностью:
— Я положительно смущен: гости начинают льстить хозяину.
Вынужденный покинуть Россию, Горький вскоре уехал на Капри. Здесь обрываются мои ранние воспоминания о Горьком. В 1911 году я уехал в Париж и вернулся в Россию лишь в 1914-м. Пришла война. В литературно-художественной среде произошел распад. Большинство приняло оборонческую точку зрения. Леонид Андреев основал и редактировал патриотический журнал «Отечество». Горький написал Андрееву негодующее письмо, и их многолетняя дружба дала незалечимую трещину…
Я встретился с Горьким уже в предреволюционные месяцы. Он был в Петербурге, переименованном в Петроград.
Внешне Горький сильно изменился. Он не носил теперь ни черной косоворотки, ни смазных сапог, одевался в пиджачный костюм. Длинные, спадавшие на лоб и уши волосы были коротко подстрижены ежиком. Сходство Горького с русским мастеровым стало теперь разительным, если бы не его глаза, слишком проницательные и в то же время смотрящие вглубь самого себя. На заводах и на фабриках, среди почтальонов и трамвайных кондукторов — скуластые, широконосые, с нависшими ржавыми усами и прической ежом — двойники Горького встречались повсюду.
Октябрьская революция. Обширная квартира Горького на Кронверкском проспекте полна народу. Горький, как всегда, сохраняет внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами проскальзывает возбуждение. Люди вокруг него — самых разнообразных категорий: большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающиеся интеллигенты, запуганные и гонимые аристократы… Горький слушает, ободряет, спорит… переходит от заседания к заседанию, ездит в Смольный.
В эту эпоху Горький сам был полон сомнений. Жестокость, сопровождавшая «бескровный» переворот, глубоко его потрясла. Бомбардировка Кремля подняла в Горьком бурю противоречивых чувств. Пробоину в куполе собора Василия Блаженного он ощутил как рану в собственном теле. В эти трагические дни он был далеко не один в таком состоянии — среди большевиков и их спутников. Я видел Анатолия Луначарского, только что назначенного народным комиссаром просвещения, дошедшим до истерики и пославшим в партию отказ от какой-либо политической деятельности. Ленин с трудом отговорил его от этого решения…
Комитет Союза деятелей искусств, основанного еще при Временном правительстве и возглавлявшегося Горьким, назначил в его квартире встречу с представителями новой власти. Но утром этого дня Горький заболел, и его температура поднялась до 39°. Забежав к нему в полдень, я предложил отсрочить заседание. Горький не согласился:
— Веселее будет лежать!
Горького лихорадило, лицо его потемнело. Он кашлял, сводя брови и закрывая глаза. Ему нужен был отдых, никакого «веселья» он, конечно, не предвидел. Но его личные потребности тотчас отступали на последний план, когда дело касалось искусства, науки, книги: культуру Горький любил до самозабвения. Когда по окончании заседания «власти» уехали, Горький сказал, протягивая в пространство сухую, гипсово-белую руку: