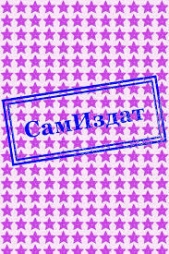Марина Цветаева. Жизнь и творчество
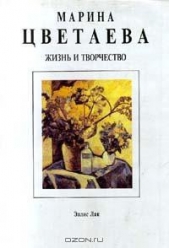
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Марина Ивановна приходила на Конгресс как добровольный зритель. В тот день, 24 июня, на вечернем заседании выступал Николай Тихонов.
"Почему в таежных лесах Сибири, — ораторствовал он, — комсомольская молодежь, строя город, прибивает в начале лесной просеки к вековому дереву дощечку: "Улица Энтузиастов"? И действительно, через месяц здесь стоит улица с домиками, храбро смотрящими на первобытный лес. Великий вихрь создания нового общества идет по Советской стране. Это воздвигаются не только корпуса фабрик или гидростанций, — это строится колыбель новой лирики, новой поэзии…"
Такие слова действовали на публику; даже Цветаева прониклась симпатией к этому живому олицетворению России, "края — всем краям наоборот", — о котором писала в "Стихах к сыну"…
И тут в зале появился Борис Пастернак, едва ли не в тот самый момент, когда Тихонов говорил о его поэзии: "Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движений!". По свидетельству Эренбурга, в этот момент зал встал и приветствовал Пастернака долгими рукоплесканиями.
…Ровно тринадцать лет назад Цветаева получила восторженное. потрясшее ее, письмо Пастернака, на которое, дав улечься волнению, — откликнулась всею собой и на долгие годы. Но тогда же, повинуясь некоему инстинктивному опасению, написала: "Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом". И хотя потом она тысячи раз хотела этой встречи с Пастернаком: сначала — наедине, "лбом в лоб", потом втроем, с Рильке, — эти оброненные в ноябре двадцать второго года слова оказались провидческими.
"Сшибаются лбом". И еще: "Не суждено, чтобы сильный с сильным…" Произошло ни то, ни другое: просто — невстреча, как выразилась Марина Ивановна.
Оставался последний день работы Конгресса. Свое слово Пастернак все-таки произнес, — отрывочными фразами, из которых, если верить Тихонову, они вместе с Цветаевой составили следующий текст (для печати):
"Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником".
Нужно ли доказывать значимость этих слов, определяющих поэзию и защищающих ее от любых собраний, обсуждений (и конгрессов)? Однако нам думается, что Марина Ивановна вряд ли прониклась ими; ей было не до того. Она была тревожно сосредоточена на обрывочных мгновениях общенья со своим мечтанным "братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении". Общение происходило в отеле, а еще — в магазине, где Борис Леонидович просил ее примерить платье, он хотел купить его своей жене, в которую был влюблен и по которой тосковал. (Спустя много лет Марина Ивановна не без ехидства изобразила эту сцену.) По-видимому, она показывала Пастернаку свои стихи и прозу, которую он будет в силах прочесть лишь осенью. Словом, никакого "заоблачного брата" она не увидела. Перед нею был несчастный издерганный человек, находящийся в состоянии, близком к нервному истощению. Говорить о причинах оного — значит пускаться в подробные рассуждения на важную и деликатную тему; о глубочайшем творческом, нравственном кризисе, который переживал тогда Борис Пастернак. Кое-что он пытался ей объяснить, — например, как не хотел ехать в Париж и как не мог отказаться. Такие вещи, вероятно, казались ей дикими; невозможно было представить, что поэта сперва не выпускают за границу (мы помним, как она возмущалась этим), а потом — принуждают, но теперь он не хочет. Настороженность Бориса Леонидовича, его нерешительность в ответе на ее вопрос: ехать ей или не ехать в СССР? — сбивали с толку, выглядели как трусость; его самые главные мысли шли мимо сознания и толковались ею "со своей колокольни".
"От Б<ориса> — у меня смутное чувство, — жаловалась она неделю спустя… Тихонову, с которым едва была знакома. — Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь. Как мне тогда… — на слезы: — Почему ты плачешь? — Я не плачу, это глаза плачут. — Если я сейчас не плачу, то потому, что решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась — что тут же перестала плакать.) — Ты — полюбишь Колхозы!
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я — тех старичков — кладбищенских.
А плакала я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал Лирику, называя всего себя и всё в себе — болезнью. (Пусть — "высокой". Но он и этого не сказал…)"
"Лучший лирический поэт нашего времени" — сказано, разумеется, искренне. И чествовали Пастернака на Конгрессе по заслугам, в этом она не сомневалась. Вот только… она, Марина Цветаева, была на Конгрессе (мы уже говорили об этом) всего лишь добровольной гостьей. Дело не в политике: Цветаева никогда не поднялась бы на политическую трибуну. Дело заключалось в том, что в глазах культурных деятелей мира Борис Пастернак был провозглашен как крупнейшее явление в поэзии. А она… она, как "бедная родственница", упрашивала редакции ничтожно-тиражных считанных эмигрантских газет и журналов не сокращать ее строк, понять ее текст, поскорее выплатить тощий гонорар… Бориса Пастернака называли "гениальным", "рисовали и фотографировали для нескольких здешних журналов"; он был в ужасе "от пестрого мельканья красок, радио, лжи (его заставили произнести по радио несколько демагогических фраз для советской передачи. — А.С.), мошеннического и бесчеловечного… раздуванья" его "значенья". А она была — писательницей, так сказать, "местного значения", которую в любой момент могли обидеть тем или иным (и тем и иным, печатным и моральным) способом: в лице адамовичей, рудневых и иже с ними. То, что Борис Пастернак на своей родине находился куда в более трагическом положении, — до конца понимать она, конечно, не могла.
А цену себе каждый великий творец не может не знать. Знала и Цветаева.
Не изменив в своем плане ни одного дня, 28 июня она с сыном уехала в Фавьер.
Бориса Леонидовича навещали Сергей Яковлевич (к которому Пастернак отнесся с большой симпатией и который во время заседаний Конгресса возглавлял "бригаду прогрессивной общественности", охранявшую Дворец Мютюалите) и Аля. (Много лет спустя, из ада своих изгнаний она вспоминала то лето в письмах к Борису Леонидовичу: "…сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универмагам, ты ни во что не вникал и думал о своем, домашнем?.." Это она писала Пастернаку в 1948 году, и снова — в 1955: "…когда ты так патетически грустил в гостинице (я как сейчас помню эту комнату — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем — стопка неразрезанных книг издания NBF, а сверху апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. Ему жарко, и он босиком)".
Итак, Цветаева в Фавьере, на Лазурном берегу. Средиземное море фантастической голубизны, песчаный пляж, красота гор, одетых в сосну, мирт и заросли лаванды; пиршество природы, спокойная вода, ослепительное солнце. Рай — для тех, кому он по вкусу. Но не для Марины Ивановны. (Об этом, вероятно, строки, написанные тогда: "Небо — синей знамени! Пальмы — пучки пламени! Море — полней вымени! Но своего имени Не сопрягу с брегом сим. Лира — завет бедности: Горы — редей темени, Море — седей времени".) Всё и вся мимо нее: моря она не любит, ибо почти не плавает, а лежанье на берегу — для нее томленье, паралич ее быстроте. Прогулки в горы невозможны: Муру, после операции, нужен относительный покой. А главное — тяжелое примусно-чердачное существованье, с керосиновой лампой ранними южными вечерами. На чердаке (мансарде) — пекло, окна в кухне нет, дверь выходит прямо на крутую убогую лестницу. Нормального стола тоже нет: кухонный загроможден и неустойчив, а в комнате — плетеный и дрожащий: опереться на него нельзя. Рабочая обстановка вопиюще отсутствует, и Марина Ивановна томится. К тому же в этом дачном месте для богатых (в "зажиточно-эмигрантском поселке") она, Марина Ивановна, — изгой и нищий, и ее постоянно охватывает чувство, что мир устроен неправедно: рядом — две дачи Милюкова из "Последних новостей", который никогда не рвался ее печатать; вообще публика состоятельная, равнодушная, ее, Цветаеву, не замечающая, — так, во всяком случае, она ощущает.