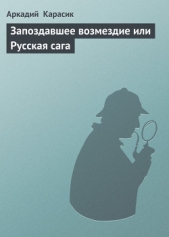Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Москве пока было вроде тихо. Николай Егорович беспокоился, когда откроют университет: приближалось время экзаменов. Верочка вообще не проявляла никакого интереса к революционным событиям: она с мужем поселилась в симпатичном особняке на Кудринской улице. Каково было удивление Кати, когда дверь ей открыл совершенно незнакомый господин — сутулый, худой, быстрый, нервный, с длинными волосами и неповторимыми голубыми глазами:
— Борис Николаевич Бугаев, — отрекомендовался он Кате. — Вернее, Андрей Белый.
Вскоре, весь извиваясь, он начал декламировать стихи. Что-то вроде:
В темном зале
В темном зале
Пробежало домино…
Андрей Белый показал Кате свои картоны с дикими рисунками и геометрическими разноцветными фигурами, пояснив, что так он изображает мысли людей и демонстрирует их перед публикой. Кате все это в особенности после Петрограда показалось жутким. «Нет, мистика не для меня», — решила она, и поспешила в деревню…
* * *
В Орехове Катю ждал большой деревенский сход, собравшийся у Жуковских. За большим столом сидели бородатые в поддевках старики и бабы, молодежь, почему-то не призванная в армию или уже оттуда дезерировавшая, стеснилась вокруг стола. Александр Александрович Микулин говорил, что они с Николаем Егоровичем уже давно порешили передать миру часть земли: из 75 десятин пахотной земли, Жуковские оставляли себе 15 десятин, небольшой лесок Сосны и Морозовский овраг. На остальное была оформлена дарственная Ореховскому обществу. Старики встав, благодарили, по-старинному встряхивая волосами, бабы кланялись. Но когда Микулин посоветовал не делить подаренную землю по душам, а запахать и засеять сообща и делить потом урожаем, снявши его, поднялся шум и гвалт.
— Так что выходит, я выйду с конем, убирать буду сам пят, а делить поровну с безлошадными?! — вскакивал деревенский спорщик Аким, — Нет моего на то согласия!
Спор продолжался долго и разрешению не поддавался. Страсти кипели до того времени, когда Микулин обещал дать безлошадным своих коней на пашню. Тут договорились…
Смутным было лето 1917 года. Деревня жила одной мыслью: «надо кончать войну». О том, чем и как она может закончиться для России не думал и не умел думать никто. Только о том, как это я буду пахать на других — безлошадных… А в это время во весь рост уже подступал грозный призрак — голод. В деревне не было ни керосина, ни спичек, ни бумаги…
В это лето Кате не оставалось ничего другого, как пройти окончательную проверку на крестьянское звание. Да ей и привычна была во многом эта жизнь: запрягать лошадь, выезжать с плугом на пашню, выходить с косой и серпом на заре, навивать воз сена на роспуски, вязать его, чтобы не съехал. Но тут, конечно, когда все разом навалилось на одни ее плечи, с прежним сравнивать не приходилось. От зари до зари работала она одна-одинешенька (только на уборку иногда приходил за часть урожая из соседней деревни помощник Андрей).
Она часто почти без сознания падала на землю, минут пять-десять лежала плашмя, понимая, что больше не сможет двинуть ни рукой, ни ногой, что все жилы ее надорваны. И все-таки вставала: осенью надо было отвезти в Москву дяде и сестре немного продовольствия на зиму. А пока приближалась молотьба… Как же справиться, когда все машины, какие были у Микулиных, забрала деревня?
Пошла из дома в дом по Орехову, расспрашивая, не сохранились ли у кого старинные цепы. Нашла два исправных: отшлифованная толстая палка в рост человека, а к ней на конце куском кожи весьма искусно привязана свободно движущаяся тяжелая дубина в руку длинной с утолщением на конце. Цепом взмахивают особым способом, опускают его с силой, и дубина, ударяя на развязанный сноп по колосьям, вымолачивает зерно.
Сказать просто, а не умея, только разметаешь колосья по току. Не говоря уж о неподъемной тяжести сего орудия, коим даже крепостные крестьяне в старину в одиночку никогда не работали.
А Катя работала. Заходили деревенские бабы и старики, стояли, смотрели… Вспоминали стародавние годы, дедовы времена, но… никто не помог.
Тем не менее Катя была счастлива тогда: хлеб обмолочен и не пришлось кланяться «занятых своим делом» ореховцам, как она, тонко выражаясь, говорила о них. И действительно: молотилка, конфискованная у Жуковских, ведь требовала нескольких человек для обслуживания своей работы…
Осенью, пока совсем не размокли глинистые владимирские проселки, в октябре 1917 года, отправилась Катя в Москву с двумя огромными кошелями наперевес. Главный продукт составляло накопленное за лето топленое масло, мед и гречка. Как радовался Николай Егорович деревенскому гостинцу из родного Орехова, скрывая ото всех в глубинах сердца острую боль о разрушающейся жизни, о том, что дожила Россия до таких страшных дней, о Кате, которая надрывается одна…
Только это и розовые щеки двух малышей искупали для Кати все ее непосильные труды, лишения, огорчения и даже тяжкий крест одиночества.
В Москве бушевало восстание. На Пресне шел бой. Николай Егорович выходил на Мясницкую вместе с Катей — усидеть дома было невозможно… Прибегала дальняя родственница у которой сыновья-кадеты были в расстреливаемом Кремле. Она металась по Москве, разыскивая хоть тела их, и уже совсем ничего не страшилась, только бы найти сыновей. Вдоль улиц текли красные ручьи. Валялись убитые лошади. Некоторые дома были совершенно разбиты…
* * *
Но подошла и поздняя осень. Холодные ветры, лужи и голые поля, унылое мычание коров, ставших на «дворы»… Не слишком-то приветливое время. И даже на Катю с ее невероятной волей и энергией стала находить меланхолия, которая отразилась в ее стишке, тогда же сочиненном, что для нее было делом невиданным:
Лишь старые елки за прудом
Тебе рассказать бы могли
Мои невеселые думы
В такие осенние, хмурые дни.
Смеется мой мальчик, хохочет
Кудрявая дочка весны.
Меня же всегда одиночество гложет
В такие осенние хмурые дни…
Много можно рассказать о ней, удивительной и загадочной русской женщине. Что это за силища в ней была? Какой мужчина был бы ей подстать, — я и не знаю. Но только вот разве подстать подбирает пары Господь? Не кресты ли?
Наваливалось одиночество, тоска, и Катя шла учить деревенских ребят. А следом за тем ставила в деревне спектакли, собрав всю наличную по избам молодежь. В доме Жуковских строили помост, сцену, на занавес определяли занавески с окон, освещали сцену керосиновыми лампами. Стульев было излиха: рассеянный Николай Егорович каждый год закупал по дюжине и слал их в Орехово.
А в соседней комнате устраивали для всех чай. Кулисами служили свешивающиеся на планках обои или живые елки. А костюмы… Катя все сундуки перерыла дома и в деревне, выуживая старинные кофты с басками, широченные юбки, повойники, старинные русские рубахи, поддевки… А за актерами дело не стало: все просились «играть на киатре».
Сколько задушевного и красивого сделала она в те годы в деревне… Сколько отрады людям подарила… Долго все помнили, как ставили песню: «С ярмарки ехал ухарь купец»… Купца изображал замечательный парень, гармонист и красавец Федя Перфильев. А вокруг на сцене были ларьки с прислоненными граблями и серпами. Были разложены желтые тыквы, красные грозди рябины, зеленые плети с огурцами — красотища! В ларьках сидели певцы деревенские. Сначала Федя играл за сценой, пел весь текст песни. А потом и появлялся красавец купец и обманутая им девушка — Настя Данилова ее изображала. Голос у Насти был бесподобный! Катя потом Настю в Москву возила, показывала профессионалам. Ее брали учить с охотой. Да Настя наотрез отказалась уезжать из деревни.