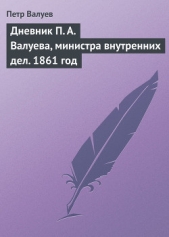Дневник. 1918-1924

Дневник. 1918-1924 читать книгу онлайн
Дневники Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), охватывающие 1918–1924 годы, никогда прежде не печатались. Знаменитый и модный живописец, авторитетный критик и историк искусств, уважаемый общественный деятель — он в эти трудные годы был художником и постановщиком в Мариинском, Александринском и Большом драматических театрах, и иллюстратором книг, и заведующим Картинной галереей Эрмитажа. Свои подробные ежедневные записи Александр Бенуа называл «протоколом текущего безумия в атмосфере чада, лжи и чепухи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8 часов утра. С озаренного солнцем, шуршащего листвой зеленого простора льются в мою просторную комнату (кажется особенно просторной после тесноты петербургской квартиры) живительные ароматы, в которых теперь доминирует липовый цвет. Комната же вся надушена лесной земляникой, большое блюдо которой стоит на комоде. Хорошо, слишком хорошо здесь, и трудно будет отсюда уезжать даже за границу. Впрочем, это «даже» здесь неуместно. Менее всего меня тянет туда. Удовольствия, которые, быть может, ожидают меня там, радость обнять Лелю, познакомиться с внуком, побегать по Парижу, заслоняются жуткимиобразами Иды, Сережи, Валечки и всего снобического мира, к которому за этот год я получил окончательное и злобное омерзение и на помощь которого не приходится рассчитывать. Вообще я чувствую, что страшно постарел и особенно что мое искусство постарело. Так зачем же туда соваться? А с другой стороны, это шанс спасения от здешнего мизерного и жалкого прозябания. Ах, если бы здесь получить верных ну хотя бы 250–300 рублей в месяц. С какой бы радостью я отказался от всякой заграницы.
В понедельник, 21 июля, вечером в Петербурге ко мне напросился Джеймс Шмидт; его старые дамы — жена и мать жены — остались в Гатчине, а ему слишком тяжело, после ареста дочери, одиночество дома. Но, Боже мой, что это было за тяжелое испытание. Я за эти годы оценил Джеймса по достоинству. Он вовсе не дурак, он поразительно начитан. Он кладезь разнородных (немецких) знаний, но скучен он все же невообразимо! На сей раз он меня и несчастного Стипа, пришедшего уютно отдохнуть, посидеть со своим старым другом, кормил рассказами о каких-то служебных историях, происходивших в начале его эрмитажной деятельности, еще при добродушном, фривольном, хитроумном Сомове, робком Неустроеве и завистливом Кизерицком. Все это с мельчайшими подробностями и упиваясь чисто бюрократическими заковыками и фокусами. Ужасен самый способ изложения бедного Джеймса, его паузы, иногда разбивающие не только слова, но и слоги внутри слов, и отделяющие согласные от гласных, его причмокивания, все его манипуляции с набиванием папирос, с зажигалкой. Больше всего удручают его лиловые руки, его гнилушки-зубы и всегда висящая на кончике носа капля…
Увы и здесь, в Гатчине, он меня ловит и преследует, причем он и понятия не имеет о том, что художник нуждается в одиночестве. Он лезет прямо в комнаты, подходит к рабочему столу, смотрит, как я рисую и пишу. И все это я должен терпеть — ведь он же теперь мой коллега. А кроме того, мне и жаль его, особенно с тех пор, что «засела» его (тоже неаппетитная) дочурка.
Во вторник, 22 июля, пошел с Сидоровым и Жарновским в Академию смотреть перегородки Кушелевки, которые мне хотелось забрать к себе. Заодно осмотрели выставку-кон курс памятников Ленину, занимающую оба «античных» зала и купольную. Отрадного, разумеется, ничего нет, но в общем все же больше напряжения и художественных исканий, нежели на конкурсах былого времени. Все, видимо, из кожи лезли, чтобы отличиться перед властями, а под этим простая жажда хоть что-либо заработать. Всего эффектнее Фоминские измышления, в которых И.А. (он сам мне пояснил) использовал мотив фальконетовской скалы со свесом. Один из двух вариантов. Обе модели имеют в виду колоссальные размеры: «В два раза больше Петра». Когда на это я выразил некоторое изумление, то Фомин поспешил засвидетельствовать, что ведь и Ленин куда значительнее Петра. Вот так переменился с 1917 года! Ту же мысль скалы, на которую въехал броневик (самый броневик входил в задание конкурса, это тот броневик, с которого Ильич говорил первую свою речь тотчас по выходе из Финляндского вокзала, перед которым будет стоять памятник), и с той же попыткой в позе Ленина выразить «стихийный порыв вперед» использовал и Троупянский, выставивший без приглашения, «под девизом», но открывший мне свой аноним. И его модели немногим уступают Фоминым. Много ерунды. Так, Шервуд погрузил и броневик, и обступившую его толпу по пояс в какую-то массу, долженствующую изобразить «лучи прожектора» (говорят, эта чушь «как идея» очень нравится властям). «Светлый эффект» использован и другими конкурентами, поместившими за Лениным Зиновьева, держащего фонарь, который, если нажать кнопку, то зажигается. Белогруд, исходя из того, что Ленин был проповедником, нарядил его в схиму с капюшоном, а броневик всунул в трехгранный обелиск, и т. д.
Какой-то осел использовал и «конструкцию», приклеив ни с того ни с сего к своему обелиску ферму. Я бы, пожалуй, более всего приветствовал проект одного анонимного супрематиста, просто водрузившего один гигантский куб на другой и окрасивший верхний в красный цвет. Такая статическая масса среди городской суеты была бы импозантна и давала бы жуть вроде той, которую я испытал в детстве от гигантской глыбы, предназначавшейся для одного из «ангелов» перед Казанским собором и застрявшей в переулке у Павловских казарм (ее в конце 1800-х годов разбил на щебень командор Мёлес).
Перед обедом заходил к сестре Кате, чтобы поднести ей на день рождения конфет. Шура лежит в малярии.
Вечер провел дома за рисованием обложки для «Нового Робинзона» (заказ Шафрана). Три раза переделывал. Мотю одолевает зверье. Потешно, как собачка Карлуша ревнует кошку Лелю, уже неистово облаивает ее, отгоняет от Моти. Котята уже носятся по всей квартире и распространяют прескверный запах. Мотя увлекается чтением «Приключений полковника Жерара» К.Дойля. Она рассказывает чудовищные вещи про Серафиму, как ее среди Невского избил ее… — коммунист, комиссар, неистово требующий, чтобы она бросила мужа. Вообще среди нашего дома выявилось много неуютного.
Впрочем, неблагополучно и у Моласов. Оказывается, папа Молас — старый французский брюзга.
С Лондонской конференцией ничего не клеится. Теперь в нее вмешались американские кредиторы.
7,5 утра в Гатчине. Акица встала без четверти 6 (это у нее вообще такая манера, а сегодня она занята печением кренделя по случаю дня свадьбы наших молодых), да и я, разбуженный ею и не будучи в состоянии дальше спать (хотя и было приказано), улучив момент ее отсутствия, оделся, умылся, вычистил сапоги, открыл окно (это чудесная минута, ибо полным потоком вливается чудодейственная свежеть) и убрал комнату. Сейчас займусь обещанной Макарову (ведь надо же чем-нибудь оплатить за все его несказанные любезности) статьей о Ротари — по поводу моей атрибуции мастера виртуозной фигуры казачка в Арсенале (я думаю, этот казачок был слугой Гр. Гр. Орлова). Я здесь превосходно отхожу с постели. Начинаю более толково распоряжаться своим временем, но отлучки в город, где идет совсем другая жизнь, все же разбивают настроение, и вполне втянуться в местную жизнь не удается. Удручает и мысль об отъезде за границу. Не отказываюсь от нее только потому, что не в силах огорчать Акицу, да и авось там я что-нибудь заработаю. Удовольствия от самого путешествия не вижу никакого. Хоть бы откуда-нибудь достать тысчонки три.
Забыл записать о деле Изюмова. Его обвинили в каком-то мошенничестве и хищениях на заводе и приговорили не более и не менее как к «высшей мере» (это уж так полагается, разбойников приговаривают у нас к пяти годам заключения. Да и то еще кому-то сбавляют, а простых жуликов — к расстрелу), но ввиду чистосердечного признания, но ввиду тирады, в которой он ссылается на свое пролетарское происхождение, «высшая мера» ему заменена менее уничтожающей карой. Вот тебе и еще один меценат!
На днях же состоялось судилище над пресловутым Анжиновым, бывшем одно время вершителем всех дел у Голике и присвоившим в годы сугубой революционной бестолковщины все художественные и иные достояния печатавшихся там изданий. Тоже какое-то хищение бумаг и прочее, на сей раз приговор вынесен был более мягкий — пятилетнее заточение. Нотгафта вызывали в свидетели, и он порядком трусил, как бы ему по теперешнему обычаю не попасть из свидетелей в обвиняемые (ведь малейшее одолжение может быть сочтено за «взятку» — чиновники).