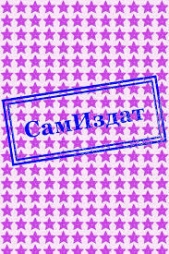Марина Цветаева. Жизнь и творчество
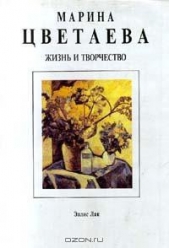
Марина Цветаева. Жизнь и творчество читать книгу онлайн
Новая книга Анны Саакянц рассказывает о личности и судьбе поэта. Эта работа не жизнеописание М. Цветаевой в чистом виде и не литературоведческая монография, хотя вбирает в себя и то и другое. Уникальные необнародованные ранее материалы, значительная часть которых получена автором от дочери Цветаевой — Ариадны Эфрон, — позволяет сделать новые открытия в творчестве великого русского поэта.
Книга является приложением к семитомному собранию сочинений М. Цветаевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О Тарусе, о "кусочке раннего детства" в этом городке на Оке, Цветаева в мае написала маленький очерк "Хлыстовки". Перед читателем раскрываются картины сказочных приокских берегов с их далями и синью, стенами ивово-бузинного плетня, водопадом всех летних ягод сразу, мельканием сенокоса, волшебством костра. И над всем этим миром владычествовали "Кирилловны" — неисчислимые по количеству, неопределимые по возрасту и внешности, полумифические — и такие надежные! И внезапно, пресекая дивную сказку о райской земле детства, следовал финал:
"Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника.
Но если это несбыточно… я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:
Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА".
Означала ли эта прижизненная эпитафия некий поворот в размышлениях Марины Ивановны: возвращаться на родину или нет? Размышления, во всяком случае, были достаточно мучительны. Так, например, в том же мае она описывала Тесковой судьбу четверых детей своей старой приятельницы Анны Ильиничны Андреевой, с трудом пытавшихся устроиться в жизни, преодолеть нужду и безработицу. Участь ее Али потенциально присоединялась к этим "сюжетам", мы уже не говорим о Сергее Яковлевиче. Будущее обожаемого сына, конечно, особенно ее страшило.
Двенадцатого мая она отправила Иваску письмо, где добросовестно отвечала на его вопросы: о том, что любит Льва Толстого не как писателя, а за его одинокую муку; о Достоевском, который ей "в жизни как-то не понадобился"; о любимом времени года — осени. А в начале письма приподняла завесу над природой своего творческого и человеческого дуализма:
"…во мне нового ничего, кроме моей поэтической (dichterische) отзывчивости на новое звучание воздуха. За меня бы дорого дали, если бы я существом отзывалась, как дорого дали — за Маяковского и, дорого дав, и то не удержали!"
Но именно человеческим существом своим она на современность не отзывалась… Да и как иначе могло быть, если, например, она знала, что с выходом очередного номера "Современных записок", — где, к счастью, Руднев, несмотря ни на что, печатал ее почти в каждом номере, — дамокловым мечом нависал непременный печатный отзыв Георгия Адамовича, и никогда не было известно, погладит ли он по головке или выпустит когти. Вот и сейчас, в мае, он откликнулся на 55-й номер журнала, где отвел такие слова "Пленному духу": "Марина Цветаева, однако, ограничилась только впечатлениями от встреч с Белым, переплетенными с тем, что можно было бы назвать "впечатлениями от самой себя", а от попытки понять его отказалась". Опять ее не поняли, не снизошли до попытки добросовестно прочесть…
И еще, в том же письме от 12 мая, Цветаева просила Иваска прислать ей третий том трилогии "Кристин, дочь Лавранса": "Крест". А первые два у нее есть; вторую — "Женщина" — ей прислала Тескова в 1932 г. Теперь, когда прошло всего два года, эмоционально-житейские акценты сместились, и Марине Ивановне кажется, что именно финальная, самая тяжкая часть жизни героини Сигрид Унсет ей ближе всего: "душу отдать!.. Это, именно эта III часть, моя любимая книга в мире".
Книгу Иваск прислал ей сразу же. И Марина Ивановна, залитая благодарностью, прониклась к нему абсолютным доверием и увидела в нем не более не менее, как… своего будущего душеприказчика: ведь в своих терзающих душу размышлениях: возвращаться в Россию или нет — едва ли не самым мучительным был вопрос: что делать с архивом?
Итак, она пишет Иваску:
"<25-го> мая 1934 г.
Знаете, что мне первое пришло в голову, когда я ощутила в руках всю весомость "Das Kreuz"… Этому человеку я бы оставила все мои рукописи. — Это была моя благодарность — невольная, крик всего моего существа, настоящий инстинкт самосохранения, — непогрешимый жест — сна… у меня никого нет, кому бы я это доверила. Пастернак — мой несколько старший сверстник, и даже, если бы — на такого такую гору обвалить — убить. (Он после каждой моей строки ходит как убитый, — от силы потрясения, силы собственного отзыва, — он бы в первой уже странице (моих несчетных, огромных черновых тетрадей!) зарылся, был бы завален мной как шахтер — землей).
Ася? (Сестра, в Москве, перебираю близких). Ася любит меня безмерно, но — "земля наша богата, порядку в ней лишь нет", кроме того, в одну великодушную минуту — могла бы сжечь всё, как всегда жгла всё свое. Кроме того, мы с ней тоже сверстницы (немножко моложе).
Аля? (Дочь). У нее будет своя жизнь, да и рукописи мои, нужно думать, один уже вид моих синих огромных, беспощадных каких-то тетрадей, ей за жизнь — успеет надоесть! Ведь, как родилась — всегда тетрадь и я всегда над ней, на ней…
Мур? (Сын). Ему сейчас девять лет и он активист — а не архивист. Плохой был бы подарок?
Итак, у меня никого нет, кроме Вас — и хотите-не хотите — придется. Объективные данные: Вы намного моложе меня (я родилась в 1892 г… этого 26-го старого сентября мне будет сорок два года, — а Вам? Итак (данные) 1) Вы намного моложе меня 2) Вы ЛЮБИТЕ стихи, т. е. без них жить не можете — и не хотите 3) Вы где-то далёко, одиноко, по собственному почину, без великого воспомоществования личной встречи — чисто — как если бы я умерла сто лет назад — "открыли" меня, стали рыть, как землю. 4) Вы — всё-таки — немец? (Вы эстонец? А кто — эстонцы? Германцы? Скандинавы? Монголы? Я ничего не знаю, непременно ответьте. Смесь чего — с чем? Какова, в двух словах, история края и народа? Не сейчас, а — тогда. Есть ли эпос? Какой? Хочу знать своего душеприказчика).
Откуда в Вас страсть к стихам? В Вас ведь двое: стихолюб и архивист… Кто в роду — любил? У меня — достоверно — мать и дед (ее отец), стихотворная моя жила — оттуда, а чисто-филологическая — от отца, хотя мать тоже была предельно одарена — знала пять языков, не считая родного русского, а шестой (испанский) выучила уже незадолго до смерти (умерла молодая, как все женщины по ее польской материнской линии).
— Итак, принимаете?
"Бедных писаний моих Вавилонская башня…" (Москва, 1916 г.) — уже тогда знала, что "бедных", и что — Вавилонская — и что — башня… Жду ответа. МЦ."
Ответ Иваска, где он, по-видимому, отклонял просьбу Марины Ивановны, обидел ее. Тем не менее она все еще была щедра: отвечала на его вопросы, — например, о С. М. Волконском, которому посвятила цикл "Ученик", и даже о том, какая ее любимая еда. Писала о своем быте и бытии, подробно, откровенно; жаловалась на недуг: нарывы от истощения; писала, что ходит на уколы в лечебницу для безработных русских. И пыталась объяснить свое главное, сокровенное: говорила о том, что в ней "всё сосуществовало, создано было с самого начала". И еще:
"Из меня, вообще, можно было бы выделить по крайней мере семь поэтов, не говоря уже о прозаиках, рода'х прозы, от сушайшей мысли до ярчайшего живописания. Потому-то я так и трудна — как целое, для охвата и осознания. А ключ прост. Просто поверить, просто понять, что — чудо".
(А разве вся ее жизнь, все ее противостояние обстоятельствам, вся ее неизбывная энергия — творческая и человеческая — не были действительно чудом?)
От своего поручения — взять на сохранение ее архив — Марина Ивановна освободила Иваска:
"Итак, снимаю с Вас…
— всю гору, друг, все горы, вплоть до последнего тарусского холма…
Делаю это дружески и даже матерински… Вне обиды, вне разочарования, — привычно".