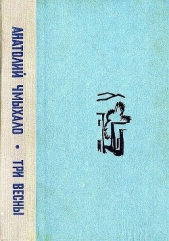Повести моей жизни. Том 2

Повести моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первой буквы я не разобрал, но из двух остальных вышло: «...то».
«Значит, — подумал я, — он спрашивает: кто я?» И, не дожидаясь дальнейшего, я начал выстукивать ему свою фамилию. Он, очевидно, сбился, так как опять повторил свое «кто», но на второй мой стук последовало с его стороны молчание.
Тогда я сам спросил его:
— Кто?
— Рабочий Котов, — последовал ответ.
— За что? — спросил я.
— За политику. А вы?
— Тоже.
Этим и ограничились наши разговоры в первый вечер.
В следующие три дня мы сообщили друг другу некоторые подробности о себе; из рассказанного им единственно интересным было то, что на допросах из опасения подписывать протоколы он объявил себя безграмотным.
Через неделю его увезли, и я остался с этого времени совершенно изолированным.
Единственная вещь, которую я потом услыхал о Котове, была не в его пользу. Мне говорили, что он назвал тех, которые дали ему запрещенную книжку, и потому его быстро выпустили.
И вот начались для меня недели полного и абсолютного одиночества, без соседей, без книг. Воображение сначала вновь стало строить свои романы, но все они были односторонни и сводились к мрачным картинам окружающего насилия и в конце концов к одной и той же навязчивой мысли — к побегу.
Но как было его осуществить?
Целый месяц не мог я ничего придумать, несмотря на все напряжение ума, но в конце мая у меня вдруг стал складываться совершенно определенный план: воздействовать на суеверие моих сторожей.
Я вспомнил, как, будучи в младших классах гимназии, я по временам играл с товарищами в чертиков. Унеся лампу из комнаты, мы зажигали спички, потом быстро задували их, и, пока еще тлелся обгорелый конец, мы вставляли его себе в рот между зубами, которыми защемляли спичку, как клещами. Затем, открыв широко губы и оскалив зубы, мы начинали быстро вдыхать и выдыхать воздух. Тлеющий конец в глубине рта, за зубами, то вспыхивал, то потухал, вся внутренняя полость рта становилась как бы огненной, и казалось, что из щелей между нашими зубами вырывается красное пламя. Это казалось очень страшно в темноте, и, выскочив неожиданно в сени, когда кто-нибудь туда входил в полутьме, мы пугали даже взрослых.
«Возьму, — думал я, — затушу у себя лампу и скажу, что сама потухла. А когда они отворят дверь, я зажгу спичку, задуну и ту лампу, которую они могут с собой принести, а затем, вложив тлеющую спичку себе в рот, дохну на них пламенем, брошусь в коридор, надену там на голову еще бумажный пакет, углы которого сделаю вроде рогов, и убегу от них, превратившись в черта. Наверно, эти люди, воображающие, что я могу нырнуть от них в умывальный кувшин, так перетрусят, что не решатся даже и преследовать меня».
И я это непременно осуществил бы сейчас же, — так мне казался верным мой способ.
Но вот в чем была беда! В мае в Москве совсем не бывает темных ночей, а только сумерки, и мне перестали подавать даже лампу на ночь: сторожам и без того меня было видно. Очевидно, придется подождать темных августовских ночей, т. е. ровно три месяца. Это мне показалось целой вечностью. Но ничего нельзя было придумать: суеверие у православных разыгрывается главным образом только в те ночи, когда особенно темно.
Я стал ломать голову над придумыванием других способов и наконец остановился на том, какой мы с Кравчинским придумали для Волховского. Вместо огня и пламени изо рта придется употребить менее романтический способ: засыпать просто табаком глаза своим сторожам и броситься прямо на улицу. Но как заставить их отпереть мою камеру в полночь или ранним утром, помимо погашения лампы, которой теперь совсем не дают?
Устроить себе искусственную рвоту? Свалиться с криком с постели на пол и там лежать, барахтаясь? А вдруг они с перепугу не захотят входить ко мне без доктора и вместо того побегут с докладом?
Все равно! Надо раздобыть табаку! Нюхательного они не купят после случая с Волховским, но я могу сильно высушить и растереть в труху обычный курительный.
Хотя и некурящий, я сэкономил себе из своей пищи пять—десять копеек и купил на них табаку и гильз. Мало-помалу табак был высушен мною на солнце на карнизе окна, выходившего почти на запад, и превращен пальцами в мелкую пыль. Я уже подумывал, что если не буду ранен при побеге и меня не успеют догнать, то скроюсь прежде всего на вокзале Рязанской железной дороги, из которого проникну известными мне путями в свою прежнюю квартиру к Печковскому. Там переоденусь гимназистом в его пальто и фуражку и перейду в другое убежище по его указанию, так как квартиры моих уцелевших друзей, по всей вероятности, теперь уж все новые, не известные мне.
13. Тайные сношения и попытки к побегу
Через сколько дней после изготовления табаку я решился бы употребить его в дело, я не знаю, так как в это самое время вопрос о моем побеге неожиданно вступил в совершенно новую фазу. Раз, в самом начале июня, полицейский служитель, доставлявший нам обед и ужин, подал мне, с жандармским унтером за своей спиной, жестяную кружку с молоком, которое я брал себе вместо ужина. Просунув в мое дверное окошко свою руку с кружкой, он опустил ее значительно более вниз, чем обыкновенно, а лицом своим, смотря на меня, произвел невероятные гримасы. Перекосив как бы в конвульсиях рот и нос направо, налево, вверх и вниз, он начал вращать колесом свои зрачки и затем показал мне ими на свою руку, в которой между пальцами, кроме кружки, торчала еще сложенная бумажка. Я понял и, приняв кружку, вынул у него, зажав между своими пальцами, также и записочку и спокойно удалился к своему столу.
Можете себе представить мое волнение! В монотонности одиночного заключения проходят одни за другими медленной вереницей дни и ночи, напоминая собою вращающиеся колеса экипажа. Как колеса не обнаруживают при своих вечных оборотах ничего нового, за исключением тех же спиц и ободьев, так и дни неволи однообразно чередуются в нашей жизни, и потому малейшее, не вошедшее там в обиход событие заставляет сильно биться сердце человека. А ведь в данном случае были все признаки чего-то серьезного, начинающегося теперь со мной!
Воспользовавшись первой удобной минутой, я повернулся спиной к двери и расклеил свернутую в виде короткой папироски записочку. Она была от Батюшковой и так врезалась мне в память, что я буквально привожу ее здесь:
«Дорогой друг! Наконец-то нам удалось отыскать вас. Мы все так беспокоились, когда вы без вести пропали на прусской границе! Все вас обнимают, все мы надеемся, что скоро вы будете с нами. Но я не могу писать вам теперь всего, вот ключ для будущей шифрованной переписки: 1) Существуют 2) случаи, 3) когда 4) приложения 5) делаются 6) целями... 7) Бездыханны 8) фетиши? 9) Гвельджий! Каждая буква в письме, написанном этим шифром, изображается парой цифр. Первая цифра означает строку, вторая цифра означает место буквы в строке; так, слово «вы» будет 1775 и так далее».
Затем уже самым шифром было написано:
«Сообщите день и час получения этой записки и заклеена ли она, чтоб мы могли быть уверенными, что шифр не скопирован. Приклейте вашу ответную записку ко дну вашей кружки, служитель возьмет ее утром, когда будет мести пол. Сергей уехал за границу и советует вам все валить на него. Ему теперь все равно! Как вы живете? Здоровы ли, не надобно ли вам чего? В каком положении ваше дело? Ваша Варвара Б.».
Внутри записки был завернут тоненький кусочек карандаша и бумажка для ответа.
Я тотчас понял, что Сергей, так желающий принять на себя все, в чем меня будут обвинять, не кто иной, как мой друг Кравчинский, и принялся отвечать Батюшковой:
«Передайте Сергею, что я крепко обнимаю его и очень прошу его никому и никогда более не давать таких скверных советов, какой он дал сейчас мне. Ужасно рад, что устроились сношения с вами, дорогой друг. Я здоров. Обвиняют меня в тайном обществе и пропаганде у Писарева. Я отказался отвечать на все вопросы о моей деятельности, а на вопрос, знаком ли с Алексеевой и другими, отвечал, что не знаком ни с кем. Так буду говорить и до конца. Даже если б кто и говорил, что знает меня, буду говорить, что я его не знаю. Ваше письмо дошло до меня заклеенным, без признаков расклейки».